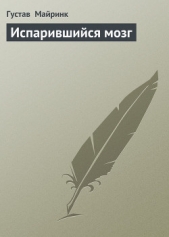Мозг отправьте по адресу...

Мозг отправьте по адресу... читать книгу онлайн
В книге историка литературы и искусства Моники Спивак рассказывается о фантасмагорическом проекте сталинской эпохи – Московском институте мозга. Институт занимался посмертной диагностикой гениальности и обладал правом изымать мозг знаменитых людей для вечного хранения в специально созданном Пантеоне. Наряду с собственно биологическими исследованиями там проводилось также всестороннее изучение личности тех, чей мозг пополнил коллекцию. В книге, являющейся вторым, дополненным, изданием (первое вышло в издательстве «Аграф» в 2001 г.), представлены ответы Н.К. Крупской на анкету Института мозга, а также развернутые портреты трех писателей, удостоенных чести оказаться в Пантеоне: Владимира Маяковского, Андрея Белого и Эдуарда Багрицкого. «Психологические портреты», выполненные под руководством крупного российского ученого, профессора Института мозга Г.И. Полякова, публикуются по машинописям, хранящимся в Государственном музее А.С. Пушкина (отдел «Мемориальная квартира Андрея Белого»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Плавная и свободная. Слова и фразы подбирал свободно, не испытывая затруднений. Правда, он всегда очень тщательно готовился к выступлениям, но, готовясь, он обдумывал не фразы, а план речи, обдумывал содержание, мысли обдумывал.
Говорил всегда с увлечением – было ли то выступление или беседа. Бывало часто – он очень эмоционален был, – готовясь к выступлению, ходит по комнате и шепотком говорит – статью, например, которую готовится написать. На прогулке, бывало, идет молча, сосредоточенно. Тогда я тоже не говорю, даю ему уйти в себя. Затем начинал говорить подробно, обстоятельно и очень не любил вставных вопросов. После споров, дискуссий, когда возвращались домой, был часто сумрачен, молчалив, расстроен. Я никогда не расспрашивала – он сам всегда потом рассказывал – без вопросов.
На прогулках часто бывали случаи, когда какая-нибудь неожиданная реплика показывала, что, гуляя, он сосредоточенно и напряженно думал, обдумывал и т. д.
"Лезет на живописную гору, а думает совсем не о горе, а о меньшевиках [134]" (см.: «Воспоминания» Эссен-Зверь [135]).
В этом же и беда была во время начала болезни. Когда врачи запретили чтение и вообще работу. Думаю, что это неправильно было. Ильич часто говорил мне и о своем критическом отношении к этому запрету: «Ведь они же (и я сам) не могут запретить мне думать». Он очень любил читать беллетристику. Чтение отвлекало бы от мыслей и перебивало бы их. [136]
Потребность высказаться, выяснить у него была всегда очень выражена. Помню случай, давно еще, до ссылки, когда он как-то говорил мне, что нужно было устроить явку каких-то тт. и я предложила свою квартиру, не спросив «кто и что». Вспоминая об этом, как-то он сказал: Что меня удивило – это что ты не задала ни одного вопроса. [137]
Случаев выпадения из памяти слов, фраз и оборотов или непонимания смысла и значения слов собеседника не было. Наоборот, необычайно быстро улавливал смысл и значение. Его записи – часто одним словом, одной фразой. Способности копировать речь и подражать звукам животных не было, насколько знаю. Не делал этого.
Дома, если какой-либо вопрос его сильно волновал, всегда говорил шепотком. Войну он ненавидел глубоко, например, – беды, которые она несет массам. Вообще он мягкий человек был. Вот эта формула Троцкого – ни мира, не войны. Как он боролся против нее, считая неправильной. А дома [шепотком?] «а вдруг?» – а вдруг все [же?].
Очень бодрый, настойчивый и выдержанный человек был. Оптимист.
В тюрьме был – сама выдержка и бодрость. Во время болезни был случай, когда в присутствии Ек<атерины> Ив<ановны> [138]я ему говорила, что вот, мол, речь, знаешь, восстанавливается, только медленно. Смотри на это, как на временное пребывание в тюрьме. Ек. Ив. не поняла [139]– говорит: «Ну, какая же тюрьма, что Вы говорите, Надежда Константиновна?»
Ильич понял – после этого разговора он стал определенно больше себя держать в руках.
Любил напевать и насвистывать.
Писал ужасно быстро, с сокращениями. Читать его трудно. Писал с необыкновенной быстротой, много и охотно. К докладам всегда записывал мысль и план речи. Записывал на докладах мысли и речи докладчика и ораторов. В этих записях всегда все основное было схвачено, никогда не пропущено.
Почерк становился более четким, когда писал что-либо (в письмах, например), что его особенно интересовало и волновало.
Письмо было связано и логически последовательно. Пропуск [140]букв (гласных часто) и слогов практиковал очень часто, в целях ускорения письма, так же как и недопись слова. Описки – нет, возможно, и были, но не часто.
Рукописи писал всегда сразу набело. Помарок очень мало. Копировать чужой почерк никогда не пробовал. [141]
Преобладания устной или письменной речи не было. По-моему, и та, и другая были развиты гармонично. [142]Легко и свободно и писал, и говорил.
Статистические таблицы, цифры, выписки писал всегда необычайно четко, с особой старательностью, – это «образцы каллиграфии». Выписывал их охотно, всегда и цифрами, и кривыми, и диаграммами, но никогда не диаграммами изобразительными (в виде рисунков). Так одна статья (1912–1913 г.) в полном собрании сочинений фигурирует как его статья и к ней диаграмма с рисунками. Это не его статья и диаграмма. Это мои. И диаграмма с рисунком – одно из доказательств. [143]
Статистическую графику использовал широко, чертил сам и очень четко.
Никак и никогда ничего не рисовал.
Читал чрезвычайно быстро. Беллетристику читал всегда медленнее, чем специальную литературу.
Читал про себя. Вслух ни я ему, ни он мне никогда ничего не читали, в заводе этого у нас не было: это же сильно замедляет.
Шепотом при чтении иногда говорил, что думал в связи с чтением.
Вдаль видел [нрзб. ] хорошо. Они с мамой (моей) часто соревновались в этом деле (она дальнозоркая, он нет). Но у него ведь, вы знаете, глаза были разные.
Глазомер у него был хороший – стрелял хорошо и в городки играл недурно.
Цвета и оттенки различал очень хорошо и правильно. В сумерки? Наверное видел хорошо. Галлюцинаций, иллюзий, неузнаваний и т. д. не было.
Зрительная память прекрасная. Лица, страницы, строчки запоминал очень хорошо. Хорошо удерживал в памяти и надолго виденное и подробности виденного. Яркие или тусклые тона любил? Ужасно любил красоту, красоты природы. [144]Любил горы, лес и закаты солнца. Очень ценил и любил сочетания красок, любил цветы [а?] и оттенки зелени. На свою одежду обращал внимания мало. Думаю, что цвет его галстука был ему безразличен. Да и к галстуку относился как к неудобной необходимости, но красиво одетых любил, когда кто-нибудь красиво одет.
Хорошо слышал на оба уха. Хорошо слышал шепотную речь. Ориентировался в незнакомой местности хорошо. Расстояния и направления по слуху тоже определял хорошо. (прогулки – мне всегда звуки казались значительно ближе, чем это оказывалось в действительности).
Высокие или низкие тона лучше? Не знаю, думаю, одинаково хорошо слышал. Непонимания смысла слышанного, иллюзий, галлюцинаций – не было.
Очень хорошо запоминал и надолго [145]удерживал в памяти слышанное. Передавал всегда точно, уверенно и свободно. Думаю, что зрительная и слуховая память у него были приблизительно равны по степени развития.
Во время подготовки к выступлениям и вообще занимаясь, любил подчеркивания, пометки, выписки и конспекты и прибегал к ним часто и много. Они часто были коротки и выразительны. Но во время чтения шепотком говорил лишь по поводу читаемого. Шепотком говорил свою статью. Слушать, как другой читает, – этого у нас не было в заводе.
Никогда ни о каких своих сновидениях не рассказывал.
Очень любил слушать рассказ. Слушал серьезно, внимательно, охотно. Есть воспоминание группы рабочих, посетивших его после болезни. Они пишут, что Ильич говорил с ними. В действительности он только слушал.
Очень любил слушать музыку. Но страшно уставал при этом. Слушал серьезно. Очень любил Вагнера. Как правило, уходил после первого действия как больной.
Шуму вообще не любил (я говорю не о шуме людной улицы, толпы, большого города). Но вот в квартире не любил шуму. Не любил слышать других. Н<адежду> К<онстантиновну> просил, например, изолировать опилками стену, отделяющую его комнату от комнаты М<арии> И<льиничны>, где стоял рояль и иногда происходило пение и музыка. [146]