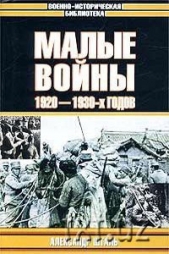«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов

«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов читать книгу онлайн
В центре исследования Игоря Вишневецкого (и сопровождающей его подборки редких, зачастую прежде не публиковавшихся материалов) — сплав музыки и политики, предложенный пятью композиторами — Владимиром Дукельским, Артуром Лурье, Игорем Маркевичем, Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, а также их коллегой и другом, музыкальным критиком и политическим публицистом Петром Сувчинским. Всех шестерых объединяло то, что в 1920–1930-е самое интересное для них происходило не в Москве и Ленинграде, а в Париже, а главное — резкая критика западного модернистического проекта (и советского его варианта) с позиций, предполагающих альтернативное понимание «западности».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дневниковая запись Роллана — первое свидетельство глубоких перемен, произошедших у былого ученика Римского-Корсакова. Стравинский заявляет Роллану, что из русских композиторов «он ценит Мусоргского и (немножко) Римского-Корсакова, который был расположен к нему» [200]. Трудно найти более жестокие слова для бывшего учителя, долгие годы занимавшегося исправлением гармонических и контрапунктических «несообразностей» у Мусоргского. Суждения Стравинского о пангерманской традиции, слишком повлиявшей на русскую музыку XIX в. и русское музыкальное образование, резко отрицательны, и диктуются они явным соперничеством. «Он не любит почти ни одного из выдающихся мастеров: ни Иоганна Себастьяна Баха, ни Бетховена. <…> Из истых немцев (так как Моцарт, по его мнению, больше чем наполовину итальянец) он любит только Вебера, который, впрочем, тоже проникнут итальянщиной» [201]. Надежда Вагнера на синтез искусств, который — как, например, в «Парсифале» — должен заменить собой прежнюю литургию, представляется ему «несбыточной» [202]. «Поведение немецкой интеллигенции внушает ему безграничное отвращение. У Гауптмана и Штрауса, говорит он, лакейские души» [203]. В последнем случае камень со страниц «Советской музыки» снова летит в национал-социалист(иче)ский огород, ибо 15 ноября 1933 г. Рихард Штраус стал председателем Музыкальной палаты рейха и объявил задачей сокращение иностранного присутствия в репертуаре немецких оперных театров на треть. Лишь послепубликации интервью Стравинского разразился неизбежный конфликт между Штраусом и режимом — из-за либреттиста его оперы «Die schweigsame Frau» («Молчаливая женщина», 1933–1934) неарийца Стефана Цвейга, и 14 июля 1935 г. пожилой композитор подал в отставку с поста заведующего всей музыкой рейха «по состоянию здоровья» [204]. Гауптман тоже занимал в высшей степени двусмысленную позицию по отношению к «национальной революции» Гитлера и Геббельса, успев в самом конце жизни быть обласканным и «рабочей властью» в Восточной Германии. Стравинский идет в идейном антигерманизме настолько далеко, что даже «частично приписывает жестокости царизма немцам, внедрившимся в России, которые держат в руках главные рычаги управления и администрации» [205]. При этом по эстетическим своим взглядам Стравинский — неверящий в «органическую форму» романтик и уж точно неклассик, а скорее укорененный в биологических ритмах футурист с характерным для русского футуризма культом молодости и весны:
Он мне сказал, что в искусстве, как и во всем, любит только весну, новую жизнь. Зрелость ему не нравится, ибо это начало заката. Поэтому совершенство, по его мнению, — низшая ступень жизнеспособности. И классиками он считает не тех, кто посвящал себя целиком созданию новой формы, а тех, кто работал над организацией форм, созданных другими [206].
Зеркальность позиций Стравинского образца 1914 г., свидетельство о которых находим у Роллана, по отношению к его же позициям через 10 лет, как они зафиксированы в упоминавшихся, в связи с Сувчинским, интервью середины 1920-х (в них Стравинский уже нереволюционер и нефутурист), и в особенности по отношению ко взглядам конца 1920-х, как они изложены Лурье в программной статье «Неоготика и неоклассика» (1928), — поразительна. О статье Лурье мы будем говорить несколько ниже. Но особенно удивительно то, что во взглядах Стравинского меняются только знаки: то, что было минусом («классицизм») у молодого композитора, — становится у «зрелого» Стравинского плюсом и, таким образом, не отменяет суждения 1914 г. — сомневаться в его подлинности нет резона — о «низшей» жизнеспособности классического искусства по сравнению с проективным изобретательством, с творчеством новых форм жизни. Постарев и поумнев, композитор отходит на более безопасные позиции.
Дальнейшие рассуждения Стравинского в передаче Роллана звучат просто предвосхищением критики ограниченной романо-германской цивилизации Западау кн. С. Н. Трубецкого и других евразийцев — критики, напомним, сформулированной евразийцами не до, как у Стравинского, а уже после русской революции и мировой войны 1914–1918 гг. Стравинский говорит о том же самом в начале великого кризиса западной цивилизации:
Варварство! Верно ли это определение? Что такое варвар? Мне кажется, что варвар является носителем культуры другой концепции, чем наша. И хотя она совсем иная, чем наша, все же это обстоятельство не исключает того, что в ней заключается такая же огромная ценность, как и в нашей культуре. Но современную Германию нельзя рассматривать как носительницу новой культуры. Это страна, являющаяся частью Старого Света. Ее культура так же стара, как и культура других западноевропейских народов. Именно поэтому я осмеливаюсь утверждать, что народ, который в мирное время воздвигает ряд памятников, подобных Siegesallee [Аллее побед. — И. В.] в Берлине, а во время войны насылает орды, разрушающие такие города, как Лувен, и такие памятники старины, как собор Реймса, является народом, который нельзя отнести ни к варварам, ни к цивилизованным народам. Ведь трудно предположить, что таким путем Германия предполагает омолодиться. Если это так, то следовало начать с памятников Берлина [207].
Читатель снова без труда вычитает невольную отсылку к национал-социалистам, с одной стороны провозглашающим «антицивилизаторство», с другой — славящим отнюдь не варварских, а, напротив, очень «западных» и культурных Вагнера и Ницше. И хотя Стравинский обещает поддержать призыв Роллана против уничтожения памятников романо-германской «старины», поддержка его звучит довольно двусмысленно: она, по мнению Стравинского, «в общих интересах всех народов, ощущающих еще необходимость дышать воздухом своей здоровой старой культуры…» [208]. Россия, впрочем, к числу таких народов не принадлежит, воздух ее культуры другой, а путь — совершенно отдельный от Западной Европы. Стравинский в разговоре с Ролланом
приписывает России роль прекрасной и мощной варварской страны, беременной зародышами новых идей, способных оплодотворить мировую мысль. Он считает, что подготовляющаяся революция по окончании войны свергнет царскую династию и создаст славянские соединенные штаты. <…> Он превозносит старую русскую культуру, которая остается неизвестной Западу, художественные и литературные памятники, находящиеся в северных и восточных городах. Он также защищает казаков от обвинений в жестокости… [209]
Это, несомненно, точка разрыва со всем общезападным в культуре современной ему России (и предвосхищение панславистского варианта евразийства, пропагандировавшегося в 1920–1930-е годы P. O. Якобсоном [210]), когда избравший добровольноеизгнание на европейском Западе Стравинский становится в собственных глазах воплощением всего революционного и способствующего здоровому росту в новейшей русской музыке [211], может быть, самым русским изо всех русских композиторов, певцом доисторической прото-России (ur-Russia, как определяет ее Тарускин) — страны, заслоненной в сознании тех, кто остался на родине, желанием либо соответствовать западной моде, либо двигать и далее художественный прогресс («далее» для Стравинского периода между «Весной священной» и «Свадебкой» означает «в сторону»; познание и самопознание происходят «вовнутрь»). Прото-Россия Стравинского — нерационалистически построяемое будущее, но она есть биологическая органика существования, его витальная основа, предпосылка выживания всего, что связано с Россией нынешней.