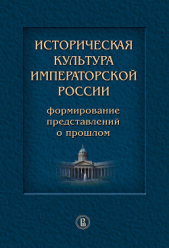Д. Л. Бранденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национ

Д. Л. Бранденбергер Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национ читать книгу онлайн
В 1930 годы Сталин и его окружение, озабоченные задачей мобилизации советского общества для грядущей войны, организовали пропагандистскую кампанию по "реабилитации" славных деятелей русского национального прошлого. В своем исследовании Д.Л.Бранденбергер прослеживает историю популистской идеологии "национал-большевизма" от 1930 годов вплоть до середины 1950 годов, обнаруживая, что идеология эта, вразрез с намерениями ее творцов, стала катализатором формирования русского национального самосознания.
Раскрывая истоки "национал-большевизма" в ближайшем окружении Сталина, автор прослеживает, каким образом новая идеология внедрялась в советское общество через систему образования и массовую культуру. Важнейшей частью исследования становится попытка реконструкции "общественного мнения" сталинской эпохи, следы которого извлекаются из писем и дневников современников, из секретных сводок НКВД. "Советский человек", советское самосознание, как правило, ассоциируется с идеологией "классового сознания". Бранденбергер доказывает, что, особенно на массовом уровне, идеология сталинизма в большей степени может быть связана с русским национализмом, нежели с пролетарским интернационализмом.
Эта книга не только помогает понять, почему такое мировоззрение пережило Сталина, но и проливает свет на причины возрождения соответствующих настроений в современной России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Необходимо отметить, однако, что партийные руководители не поддерживали в те годы открытые антисемитские выступления иди пренебрежительные высказывания в адрес других народов. Официальные сообщения Информбюро не разжигали межнациональной розни. Однако напряжение между нациями проистекало естественным образом из позиции официальных кругов, искавших опору исключительно в русской истории и мифологии. Как говорил Щербаков Эренбургу, партийная пропаганда целенаправленно ориентировалась на «настроения русского народа» [688]. Если заслуги других народов перед советской страной замалчивались или принижались, то это происходило не путем их очернения, а за счет преимущественной пропаганды русской культуры. Широкие слои населения этого, как правило, не понимали, полагая, что отсутствие сообщений о подвигах представителей других национальностей свидетельствует об их недостаточном советском патриотизме. А соответствующие читательские отклики, в свою очередь, убеждали некоторых партийных работников, даже самых высокопоставленных, в том, что так и есть на самом деле [689].
В целом, трудно определить точно, в какой степени национал-большевизм военных лет способствовал росту шовинистических настроений среди русского населения. С большей долей уверенности можно утверждать, что пропаганда руссоцентристского патриотизма сыграла большую роль в формировании русского национального самосознания. Впервые столкнувшись лицом к лицу со сплоченными рядами национальных героев и наслушавшись речей о своей главенствующей роли в культуре, большинство русских в начале 1940-х годов усвоило идею национального единства, что до 1937 года было доступно немногим. Как развивалось это зарождающееся национальное самосознание в последующие годы, когда тяготы войны остались позади, будет рассмотрено в заключительной части книги.
ЧАСТЬ III
1945-1953
Глава 11
Идеология в годы «ждановщины» и расцвета сталинизма
Некоторые историки в последние годы придерживаются мнения, что Великая Отечественная война стала фундаментальным мифом! определявшим развитие советского общества в послевоенный период. Победа над Германией способствовала укреплению культа личности Сталина и внушила большевикам недостижимую доселе неколебимую уверенность в легитимности их власти. Это был подлинный советский эпос, способный преобразить самую суть революции [690]. Другие утверждают, что столпы советской послевоенной идеологии хотели восстановить довоенную политическую машину, бесперебойно пропагандировавшую классические коммунистические ценности вроде советского патриотизма, трудолюбия, верности делу партии и заветам Маркса-Ленина, выбросив за борт напор руссоцентризма, а также влияние религии и буржуазного Запада, допускавшееся в 1941-1943 годы [691]. Не вызывает сомнений, что партия, доказав свою жизнестойкость в годы войны, больше не испытывала необходимости опираться исключительно на популистскую идею национал-большевизма или ностальгические воспоминания о ней. Массовая советская культура вплоть до 1991 года вновь и вновь возвращалась к опыту войны, задним числом оправдывая с его помощью все деяния большевиков, от головокружительной индустриализации 1930-х годов до «ежовщины». Но можно ли сказать, что советская послевоенная идеология полностью отказалась от методов прошлого?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего изучить предпринимавшиеся советским руководством в послевоенные годы попытки разобраться во всех идеологических течениях, наблюдавшихся во время войны. Хотя сталинский послевоенный тост в честь русского народа недвусмысленно определил руссоцентристскии характер отношения власти к прошедшей войне, в нем не уточнялось, какую именно роль должен играть этот «миф о войне» в советской идеологии во второй половине 1940-х годов. Вытеснит ли он свойственное национал-большевизму в предвоенные и военные годы повышенное внимание к русской истории или же недавнее прошлое будут сочетаться друг с другом? Сохранится ли прагматичная патриотическая пропаганда военного времени в том же жестком виде или будет смягчена добавлением возрожденных и обновленных лозунгов марксистского интернационализма, партийности и дружбы народов? Забудется ли скандал, связанный с изданием «Истории Казахской ССР», или же его роковые последствия будут затруднять идеологическую работу в союзных республиках? И как будет выглядеть советская идеология в целом после того, как тяготы войны остались позади?
Вообще говоря, советская идеология второй половины 1940-х годов не стала рвать связь с национал-большевизмом довоенных и военных времен. Судя по всему, свою основную задачу в этот период идеологи видели в том, чтобы совместить свойственный предыдущему десятилетию интерес к дореволюционной российской истории с принципиально иным, «советским» характером последней войны. Проанализировать идеологию периода развитого сталинизма обычными способами довольно трудно в связи с непоследовательностью партийных лозунгов и выступлений в это время, поэтому мы постараемся разобраться в ней, основываясь на том, что говорилось в ходе историографических дебатов, состоявшихся в 1945-1953 годы.
Возможно, легче всего пробиться сквозь идеологические дебри послевоенного сталинизма, если выбрать в качестве отправного пункта знаменательную речь Г. Ф. Александрова, произнесенную им в августе 1945 года на тему состояния общественных наук в СССР. Отметив успехи, достигнутые во время войны официальной исторической наукой в деле мобилизации населения, глава Агитпропа указал вместе с тем на недостатки, которые надлежало исправить. Прежде всего, история Советского Союза представала недостаточно прямолинейной. Похвалив работу, проделанную в годы войны республиками по изучению своей истории, он напомнил о недоразумениях, возникших в то же время в связи с попытками Казахстана, Татарстана и Башкирии опубликовать историю своего военного прошлого. Впредь не следует уделять слишком большого внимания волнениям национальных меньшинств и восстаниям против русской колонизации их, сказал Александров, поскольку «история народов России есть история преодоления этой вражды и постепенного их сплочения вокруг русского народа». Не стоит также слишком подробно описывать местные события, не имеющие большого значения для истории всей страны в целом. Александров сформулировал довольно замысловатый тезис, что «история отдельного народа может быть правильно разработана и понята только в связи с историей других народов и в первую очередь с историей русского народа». Призвав рассматривать историю как «единый органичный процесс», Александров лишний раз повторил неоднократно звучавшее после 1937 года требование, чтобы республиканская историография была подчинена единой руссоцентристской доктрине [692].
Не считая некоторых неувязок с казахской, татарской и башкирской историей, официальная партийная линия во время войны строго соблюдалась, и Александров позволил себе сосредоточиться на деталях изучения и популяризации истории. В частности, можно было бы, по его мнению, извлечь больше пользы из темы татаро-монгольского ига. Если учесть, что это испытание, выпавшее на долю русского народа, помешало дальнейшему продвижению Золотой орды на запад, сказал он, то русские вполне могут гордиться тем, что уже в XIII веке спасли Европу от опустошительного набега [693]. Все это укладывалось в русло советской историографии, проложенное после 1937 года, но затем докладчик сделал заявление, наверное, ставшее для всех неожиданностью. Сказав, что необходимо отретушировать канонические портреты таких крупнейших создателей русского государства, как Иван Грозный и Петр Первый, Александров добавил, что надо уточнить официальную позицию по отношению к бунтовщикам Разину и Пугачеву. Историки военного времени несколько перестарались, заметил он, превознося заслуги царственных особ и идеализируя их, и забыли о классовом подходе и основах марксистской исторической диалектики [694]. Рекомендации Александрова были тут же учтены ведущими историческими журналами и, вероятно, доставили немало хлопот историкам, занимавшимся вопросами государственного строительства в ходе войны [695]. Они гадали, насколько серьезно следует отнестись к словам Александрова и какие последствия они могут иметь.