История русской литературы XVIII века
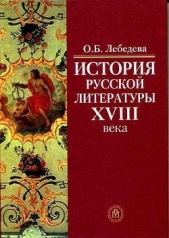
История русской литературы XVIII века читать книгу онлайн
Предлагаемый учебник по истории русской литературы XVIII в. ориентирован на программу высшего гуманитарного образования, принятую и используемую в практике преподавания истории русской литературы в высших учебных заведениях Российской Федерации. От существующих учебников, используемых в настоящее время в педагогическом процессе, он отличается тем, что историю русской литературы XVIII в. автор попытался последовательно интерпретировать в аспекте исторической поэтики, уделяя преимущественное внимание своеобразию жанровых моделей и жанровой системе.
Каждое литературное явление представлено в контексте общих тенденций литературного процесса. Дается общая периодизация русской литературы XVIII века, культурной эпохи Петра I. Отдельные главы посвящены творчеству Кантемира, Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, Фонвизина, Карамзина, Крылова, Державина, Радищева. В учебнике представлен целостный анализ текстов, входящих в список обязательной литературы по курсу. Для студентов-филологов университетов и педагогических институтов, для учителей-словесников школ, колледжей и лицеев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собою, я имел бы удовольствие служить долее отечеству. ‹…› Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница ‹…› (III,1).
Единственное действие населяющих этот мир людей – чтение и говорение, восприятие и сообщение мыслей – заменяет все возможные действия драматургических персонажей. Таким образом, мир мысли, понятия, идеала как бы вочеловечивается на сцене «Недоросля» в фигурах частных людей, чьи телесные формы вполне факультативны, поскольку они служат лишь проводниками акта мышления и перевода его в материю звучащего слова. Так вслед за двоением слова на предметное и понятийное, системы образов – на бытовых героев и героев-идеологов двоится на плоть и дух мирообраз комедии, но комедия при этом продолжает оставаться одной и той же. И это подводит нас к проблеме структурного своеобразия того общего, целостного мирообраза, который складывается в едином тексте двоящейся образности «Недоросля».
Каламбурное слово смешно своей вибрацией, совмещающей несоединимые смыслы в одной общей точке, осознание которой порождает гротескную картину абсурда, бессмыслицы и алогизма: когда нет определенного, однозначного смысла, возникает двусмысленность, оставляющая склонности читателя принять одно или другое из значений; но та точка, в которой они встречаются, – нонсенс: если не да и не нет (и да и нет), то что? Эта относительность смысла является одним из наиболее универсальных словесных лейтмотивов «Недоросля». Можно сказать, что вся комедия находится в этой точке пересечения смыслов и рождаемого им абсурдного, но чрезвычайно жизнеподобного образа действительности, который в равной мере определяется не одним, а сразу двумя, и притом противоположными мирообразами. Это гротескное мерцание действия «Недоросля» на грани достоверной реальности и абсурдного алогизма находит себе в комедии, в самом ее начале, своеобразное воплощение в вещи: знаменитом кафтане Митрофана. В комедии так ведь и остается неясным, каков же этот кафтан на самом деле: узок он («Г-жа Простакова. Он, вор, везде его обузил» – I,1), широк ли («Простаков (от робости запинаясь). Me… мешковат немного…» – I,3), или же, наконец, впору Митрофану («Скотинин. Кафтанец, брат, сшит изряднехонько» – I,4).
В этом аспекте принципиальное значение приобретает и название комедии. «Недоросль» – многофигурная композиция, и Митрофан отнюдь не является главным ее героем, поэтому относить название только и исключительно к нему текст не дает никаких оснований. Недоросль – это еще одно каламбурное слово, покрывающее весь мирообраз комедии своим двоящимся значением: по отношению к Митрофану слово «недоросль» выступает в своем предметном терминологическом смысле, поскольку актуализирует физиологический количественный признак – возраст. Зато в своем понятийном значении оно качественно характеризует другой вариант мирообраза: молодая поросль русских «новых людей» – тоже недоросль; плоть без души и дух без плоти равно несовершенны.
Противостояние и рядоположение двух групп персонажей в комедии подчеркивает одно их общее свойство: и те, и другие располагаются как бы на грани бытия и существования: физически существующие Простаковы-Скотинины бездуховны – и, значит, их нет с точки зрения преданного бытийной идее сознания XVIII в.; обладающие высшей реальностью идеи Стародум и К? лишены плоти и быта – и, значит, их в каком-то смысле тоже нет: добродетель, не живущая во плоти, и лишенный бытия порок оказываются в равной степени миражной жизнью.
Это парадоксальное и абсурдное положение точнейшим образом воспроизводит общее состояние русской реальности 1760-1780-х гг., когда в России как бы была просвещенная монархия («Наказ Комиссии о сочинении проекта Нового уложения», существующий как текст, но не как законодательный быт и правовое пространство), но на самом деле ее не было; как бы существовали законы и свобода (указ об опеке, указ о взятках, указ о вольности дворянской), но на самом деле их не было тоже, поскольку одни указы не работали на практике, а именем других творились величайшие беззакония.
Здесь – обнаруженный впервые Фонвизиным и воплощенный чисто художественными средствами глубокий корень, мягко говоря, «своеобразия» русской реальности нового времени – катастрофический раскол между словом и делом, которые, каждое само по себе, порождают разные реальности, ни в чем не совмещающиеся и абсолютно противоположные: идеальная реальность права, закона, разума и добродетели, существующая как чистая бытийная идея вне быта, и бытовая безыдейная реальность произвола, беззакония, глупости и порока, существующая в качестве повседневной житейской практики.
Два противоположных ряда смыслов, в равной мере определяющих русскую жизнь, не могли дать в ее эмоционально-эстетическом восприятии и попытке отражения в художественной структуре иного образа этой жизни, как тот невероятный образ рационалистически смоделированного абсурда, который характеризует все уровни поэтики «Недоросля». Главный каламбур комедии, тот, ради которого она написана, помогает пролить окончательный свет на этико-эстетическую природу ее мирообраза, расположенного на грани смыслов и миров в своем нерасчленимом двуединстве:
Правдин. Нет, сударыня. Тиранствовать никто не волен. Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен: да на что ж нам дан указ от о вольности дворянской? (V,4).
Как справедливо заметил В. О. Ключевский по поводу этих слов, «‹…› она хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл «Недоросля»: без нес это была бы комедия бессмыслиц» [127], ибо на грани смыслов рождается только нонсенс, на стыке миров с разной логикой – алогизм, на скрещении разнородных реальностей – мираж и абсурд. Так этико-эстетичсской доминантой такой «жизнеподобной», дающей такой «достоверный» образ русской жизни комедии оказывается на самом деле – бессмыслица, сдвиг за грань реальности и нарушение каузальных связей. Жестко рациональная, симметрично-пародийная поэтика комедии служит целям моделирования совершенно абсурдного мирообраза, и это подводит нас к проблеме жанрового своеобразия так называемой «комедии».
Проблема жанрового своеобразия комедии «Недоросль»
На уровне жанрообразования поэтика «Недоросля» продолжает пребывать парадоксальной: сатирико-бытовые по типу художественной образности персонажи комедии предстают в плотном ореоле трагедийных ассоциаций и жанрообразующих мотивов, тогда как герои-идеологи, по своему эстетическому статусу восходящие к бесплотному голосу высоких жанров оды и трагедии, целиком погружены в стихию комедийных структурных элементов.
Начнем с того, что бытовые персонажи – архаисты, приверженцы старины и обычая, как истинно трагические герои [128]. «Старинные люди» (III,5) не только родители Простаковой и Скотинина, но и они сами, принадлежащие к роду «великому и старинному» (IV,1), чья история восходит к шестому дню творения. Впрочем, задолго до того, как выяснится это обстоятельство, отдаленный звон трагедийных ассоциаций слышится в первой же характеристике, которую г-жа Простакова получает от постороннего лица: «Правдин. Нашел помещика дурака бессчетного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома (II,1)». Фурии и ад – устойчивые словесные ореолы трагических тиранов Сумарокова, возникающие в каждом из девяти его трагедийных текстов (ср., например, «Димитрий Самозванец»: «Зла фурия во мне смятенно сердце гложет»; «Ступай во ад, душа, и буди вечно пленна!» [129]). Что же касается несчастья, то именно это понятие покрывает собою трагедийный мирообраз, в котором совершается специфически трагедийная перипетия – перелом от счастья к нссчастью.























