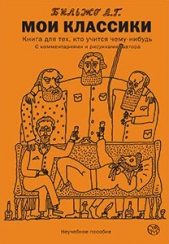«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели

«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели читать книгу онлайн
«Диалог с Чацким» — так назван один из очерков в сборнике. Здесь точно найден лейтмотив всей книги. Грани темы разнообразны. Иногда интереснее самый ранний этап — в многолетнем и непростом диалоге с читающей Россией создавались и «Мертвые души», и «Былое и думы». А отголоски образа «Бедной Лизы» прослежены почти через два века, во всех Лизаветах русской, а отчасти и советской литературы. Звучит многоголосый хор откликов на «Кому на Руси жить хорошо». Неисчислимы и противоречивы отражения «Пиковой дамы» в русской культуре. Отмечены вехи более чем столетней истории «Войны и мира». А порой наиболее интересен диалог сегодняшний— новая, неожиданная трактовка «Героя нашего времени», современное прочтение «Братьев Карамазовых» показывают всю неисчерпаемость великих шедевров русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Любопытно сопоставить с этими признаниями заметки В. В. Розанова. Он принадлежал уже к следующему поколению — в те годы, когда Степанова–Бородина встречалась с Некрасовым как сотрудница "С. — Петербургских ведомостей", будущий парадоксалист только заканчивал гимназию. Вспоминая это время, Розанов пишет: "В 1875—1878 гг. Некрасов не только заслонил Пушкина, но до некоторой степени заслонил и всю русскую литературу". Розанов замечает не только темы Некрасова и его направление (это видели все), но и стиль поэта, его стихи. "Одною из причин широкой и необыкновенно ранней усвояемости Некрасова было то, что он называет вещи необыкновенно широкими именами, говорит схемами, категориями, именно так, как говорит толпа, улица, говорит простонародье и говорят дети". И чуть дальше: "Отчего Некрасов мне, да и всем, кого я знавал, становился с первого знакомства "родным"? Оттого, что он завязывал связь с ущемленным у нас, с болеющим, страдальческим и загнанным! Это было наше демократическое чувство и социальное положение. Все мы, уже в качестве учеников, были "под прессом". Как члены семьи, мы были тоже "под прессом"".
Розанов подчеркивает особый характер любви Некрасова к народу, выразившийся в тоне его стихов. "У Некрасова заговорил сам народ, точнее — поэт сам, лично заговорил, как русский простолюдин, языком, прибаутками, юмором крестьянина, рабочего, наборщика, солдата и проч." Некрасов, по Розанову, "был настоящим основателем демократической русской литературы"; противопоставляя поэта Григоровичу и Тургеневу ("они относились к крестьянину как к свежему полю наблюдений и живописи"), критик предпочитает "естественное сочувствие к положению народа" Некрасова, любившего русского простолюдина "кровно", "как себя или своего" [317].
И через восемь лет, в "Уединенном", Розанов вновь скажет в защиту поэта: "У Некрасова есть страниц десять стихов до того народных, как этого не удалось ни одному из наших поэтов и прозаиков" [318]. Некрасова в 1916 году все еще надо было защищать, и Розанов вновь вспоминает общие пристрастия своей юности: "Он был "властителем дум" поколения чрезвычайно деятельного, энергичного и чистосердечного. Не худшего из русских поколений, — и это есть исторический факт…" [319]
Нетрудно увидеть в розановских заметках перекличку с теми страницами "Дневника писателя" Достоевского, где говорится о Некрасове. Главное для Достоевского в поэте — "истинная, страстная, а главное — непосредственная любовь к народу". При этом "Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции". Но в будущем — "в будущем народ отметит Некрасова".
Достоевский признается: "Как много Некрасов как поэт во все эти тридцать лет занимал места в моей жизни!" Но смысл его речи над гробом поэта (и всей второй части декабрьского выпуска "Дневника писателя" за 1877 г.) несомненно шире личного восприятия. "Некрасов — явление историческое", — записано в черновике второй части; Достоевский имеет в виду, очевидно, не значение Некрасова, а характерность появления русского "раздвоенного" человека. Но успех его в русской читающей публике не случаен. "Те тысячи, которые шли за гробом его, оправдали его. Что же это? Заблуждение толпы? Не верю!" [320] Эта запись из подготовительных материалов к "Дневнику" свидетельствует: Достоевский, с его всегдашней чуткостью к факту, в похоронах Некрасова видит идею, требующую осознания, разрешения. Об этом и вся вторая часть "Дневника писателя". Над разрешением этой идеи — над осмыслением места Некрасова в русской культуре — будет трудиться еще не одно поколение русских читателей.
5. ПОСЛЕ СМЕРТИ
Пали с плеч подвижника вериги,
И подвижник мертвый пал!
Посмертная судьба Некрасова и его главной поэмы не менее драматична, чем борьба вокруг поэта при его жизни. Сюжеты здесь складываются самые разные — текстология Некрасова, изувеченного цензурой официальной и неофициальной; судьба его поэтической традиции, школы — при том, что само существование некрасовской школы многим критикам казалось более чем спорным… Вот лишь некоторые вехи…
1879. Первое посмертное издание Собрания сочинений Некрасова.
В начале 1878 года у сестры поэта Анны Алексеевны Буткевич возник замысел посмертного собрания сочинений Некрасова. Расходы по изданию взял на себя М. М. Стасюлевич — редактор "Вестника Европы" и владелец типографии, в которой и будут отпечатаны 6000 экземпляров четырехтомника. В издании участвовали (советами, отчасти редактурой) Салтыков–Щедрин и Г. 3. Елисеев — они представляли "Отечественные записки"; был приглашен А. Н. Пыпин — бывший сотрудник "Современника", позднее — активный автор "Вестника Европы", ему принадлежит одна из первых монографий о Некрасове (1905). Готовить будущее собрание издательница (по завещанию Некрасова, все права на изданные и неизданные его сочинения переходили к А. А. Буткевич) предложила библиографу С. И. Пономареву [321].
В переписке А. А. Буткевич и С. И. Пономарева возникает вопрос — почему приглашен библиограф из Конотопа, а не близкий покойному поэту и известный в Петербурге П. Ефремов? Пономарев предположил даже, что к нему обратились после отказа Ефремова, — Буткевич опровергала это в письме от 29 июля 1878 года. Еще в мае 1878 года Пономарев, не зная об отношениях Ефремова с Буткевич, просил помощи у петербургского коллеги: "Все, что есть у Вас о Некрасове, давайте на помощь" [322], просил и в декабре, хотя Ефремов не отвечал до конца года. Наконец (26 декабря 1878), Ефремов сообщает о некрасовских материалах, которыми он располагает: "…письма его ко мне чисто личные, стихи, написанные "для автографов", — не для печати. Кроме того, я… несмотря на уважение к памяти Некрасова, не мог бы сделать что‑нибудь хоть малейшее, угодное для почтенной его сестрицы. Вот и весь ответ" [323]. Между тем у Ефремова хранилась (в числе многих других материалов) первоначальная рукописная редакция "Пира…", опубликованная лишь в 1935 году Ю. А. Бахрушиным в пятом сборнике "Звеньев". Этой рукописи (как и другим некрасовским текстам из архива Ефремова) еще предстоит сыграть свою роль в спорах о тексте "Кому на Руси…" [324].
Не лишена интереса хронология издания (4 тома, 100 печатных листов): в марте 1878 года Буткевич предлагает Пономареву приняться за подготовку издания; к 20 или 22 июня Пономарев был должен выслать первый том; 31 августа Буткевич благодарит Пономарева: "…наше дело кончено" [325], а 4 сентября первый том уже готов [326]. 14 января 1879 года готовы уже три тома [327], 29 января Стасюлевич пишет Пономареву: "7 октября я начал печатание, и к 7 февраля, надобно думать, печатание будет совсем окончено: четыре месяца ушло на работу; это не очень много, но все же жаль, что не было физической возможности издать к первой годовщине смерти Некрасова" [328].