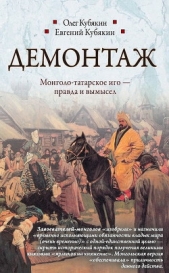Синтез целого

Синтез целого читать книгу онлайн
В книге определяются пути развития лингвистической поэтики на рубеже XX–XXI веков. При этом основной установкой является заглавная идея «синтеза целого», отражающая не только принцип существования художественных текстов и целых индивидуально-авторских систем, но и ведущий исследовательский принцип, которому следует сам автор книги. В монографии собраны тексты, написанные в течение 20 лет, и по их последовательности можно судить о развитии научных интересов ее автора. С лингвистической точки зрения рассматриваются проблемы озаглавливания прозаических и стихотворных произведений, изучается феномен «прозы поэта», анализируется эволюция авангардной поэтики с начала XX века до рубежа XX–XXI веков. Для анализа привлекаются художественные произведения А. Пушкина, Ф. Достоевского, В. Набокова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, Д. Хармса, Л. Аронзона, Е. Мнацакановой, Г. Айги и многих других поэтов и писателей XIX–XXI веков.
Книга имеет междисциплинарный характер. Она предназначена для лингвистов, литературоведов и специалистов широкого гуманитарного профиля.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый собор… [1, 63];
Если обратиться к поэтической традиции, то картина осени или, точнее, осеннего леса с яркими по окраске деревьями нередко обнаруживала у поэтов сходство с некоторым строением. Так, например, в стихотворении И. Бунина «Листопад» лес предстает как «терем расписной, / Лиловый, золотой, багряный» и «И Осень тихою вдовой / Вступает в пестрый терем свой» [Бунин 1987; 83–84]. Как мы видим, у Бунина осень даже олицетворяется и предстает как женщина-вдова, потерявшая мужа. У Пастернака в стихотворении «Золотая осень» [2, 91] осень описывается уже как «сказочный чертог, / Всем открытый для обзора»; в стихотворении же «Август» [3, 525] из живаговского цикла «осень, ясная как знаменье», явившаяся во сне лирическому герою, который ощущает себя умершим, вызывает к жизни прежний «голос провидческий, еще не тронутый распадом» и прощающийся с лазурью Преображенской, золотом второго Спаса и женщиной. Парадоксально, но если мы прочитаем все стихотворения Аронзона, в которых появляется образ церквей осени, то обнаружим все направления развития «осеннего сюжета», которые заданы Буниным и Пастернаком, только в особом авторском преломлении: здесь будет и женщина (жена) с печальными глазами «церквей осени», и умерший герой, наподобие Живаго (которого Лара, оплакивая, называла «реченькой», как Христа) накануне «воскресения» и «преображения» («я умер, реками удвоен, / чтоб к утру, может быть, воскреснуть»), и некий «голос», и особый «сей ровный свет» (как Фаворский «свет без пламени»), и простор осени «в светлый день в осиннике, в высоком листопаде», и «Я», лежащий в траве, «к покою причастясь». Добавим еще мандельштамовскую осень, которая «поет в церковных хорах и в монастырских вечерах» [1, 267] [186].
Сопоставление этих контекстов снимает вопрос о противостоянии риторического и антириторического в поэзии Аронзона, который поставлен Д. Давыдовым [2006: 52]. Как всякий поэт, Аронзон вырабатывает свою риторическую систему, основанную на прежних системах, но вносит в нее личностный сдвиг, «смещающий зеркало» (В. Набоков) [187]. Такой «сдвиг» как раз задается аронзоновской формулой «лежу я Бога и ничей», смещающей отношения между «Я» и «Богом» и помещающей «Я-себя» в центр вселенной. Как считает В. Кривулин, эта формула дает «ощущение себя растворяющимся центром», недаром в стихах Аронзона часто «звучат слова „вокруг меня“: „Вокруг меня сидела дева…“, „Вокруг лежащая природа…“» [там же]. В этом Кривулин видит истинный религиозный смысл поэзии Аронзона: «Смысл очень глубокий — и на меня, по крайней мере, это произвело огромное впечатление как какой-то факт перехода от эстетического созерцания мира к уже религиозному восприятию всего, что нам дает мир» [Кривулин 2006: 59].
Однако главным в этом восприятии является именно «обратимость», которая делает и ощущение «созерцательного» центра весьма относительным. Аронзоновское «вокруг» — это «обращение к себе лицом» (ср. «ты входишь в сонные глаголы / и, обратясь к себе лицом, / играешь на песке лесном» [1, 83]), причем «лицо» здесь имеет диффузную семантику, включающую и значение грамматического лица, так что обратимыми становятся и местоимения «Я» и «Ты», то есть первого и второго лица. К этой теме мы еще вернемся, лишь повторно отметим, что с этой позиции вполне органичными становятся «обратимые тропы» Аронзона, которые делают процесс семантического преобразования не только симметричным, но и взаимно отраженным (как в зеркале). Так, у поэта одинаково присутствуют и церкви осени, и осени церквей; и, как мы выше показали, почти все генитивные метафоры (свирь церквей, гривы свей, лань бега и др.) у него также потенциально обратимы.
К таким же обратимым метафорам относится и загадочное кресло дельты, в котором все время оказывается лирический герой поэта, взирающий на свою возлюбленную-свирель. Заметим, что сочетание «дельта кресла» было бы более естественным, однако у Аронзона именно дельта образует или заменяет кресло, а не кресло имеет форму дельты.
Если обратиться к семантической структуре слова «дельта», то оно прежде всего является названием четвертой буквы греческого алфавита, а написание ее в заглавном варианте напоминает треугольник: Δ. Интересно, что графически она происходит от финикийской буквы Δ — далет, имя которой означало ‘дверь’ или ‘вход в палатку’. Парадокс заключается в том, что в современных языках слово дельта испытало метаморфозу, поскольку оно утратило свой первоначальный архаичный смысл и приобрело другой: дельта — это ‘устье большой реки с его разветвлениями на отдельные рукава и прилегающая к нему часть суши’ [Толковый словарь 2007: 189]. Как объясняют словари и энциклопедии, это слово получило свое значение на основании визуального сходства — в древности оно было дано треугольной дельте реки Нил [Там же, Википедия] [188]. Удивительно, но в наши дни появилось еще одно «лингвистическое» значение слова дельта, основанное на той аналогии, что дельта реки имеет ветвящуюся структуру. Как известно, для моделирования подобных объектов и процессов в математике используется абстрактная структура — дерево. А поскольку предложения естественного языка также имеют ветвящуюся иерархическую структуру — подчинительные связи слов образуют дерево зависимостей, — то в современных синтаксических анализаторах используются дельта-модели, которые позволяют восстанавливать неполные и эллиптические синтаксические конструкции [189].
Тексты Аронзона также дают нам значения «кресла дельты», связанные с разветвлением деревьев и рек, более того, сами «старинные деревья» образуют это кресло:
Можно также обнаружить, что «кресло дельты», как и церкви, прикреплено и к «свирели», так как оно встречается в повторяющемся контексте:
К «речному» же значению «дельты» нас выводит контекст, связанный со смертью и воскресением лирического «Я», причем здесь важно и удвоение или, шире, умножение рек, поскольку реки у Аронзона почти всегда во множественном числе: