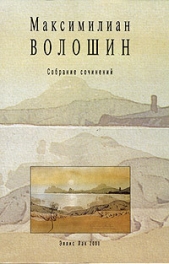Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для «золотого века» русской литературы «маленький человек» — тоже человек, но автор, писатель всегда априори больше своего героя. В «серебряном веке» дистанция между ними чрезвычайно сокращается, а к 1930-м годам исчезает вовсе: ср. «чудака Евгения» в стихотворении Мандельштама 1913 года «Над желтизной правительственных зданий…» и его же «трамвайную вишенку» 1931-го.
Точность, и художественная, и этическая, для писателя советского времени — в том, чтобы быть равным своему герою. Вопрос антропологической идентичности: удержаться не выше и не ниже человека и человеческого, не пытаться превратиться самому и не пытаться превратить своего героя ни в сверхчеловека, ни в животное. Это обеспечивает выживание в смысле видовом (как в фантастике — перед лицом мутаций, навязанных тем или иным насильственным вторжением), в смысле не-сдачи коллективному (и в частности, корпоративному, своей «среды», коллегиального круга) психозу, вспухшему на дрожжах ницшеанского мифа [275].
Может быть, самое знаменательное в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова — 1930-е годы, апогей увлеченности интеллигенции Сталиным в контексте победы ницшеанства в интернациональных масштабах — отношение к «маленькому человеку», то есть к частному проявлению человеческого в наболее уязвимой форме, беззащитной социально и интеллектуально. Это отношение не просто не сочувственное, оно — глумливо-живодерское, в духе рыночного балагана, если не площадной казни, и вызывает ассоциации с театрализацией отношения к общечеловеческому в те же годы в Германии.
С другой стороны картины мира — Варлам Шаламов. Стать меньше в социальном смысле, чем герой Шаламова, невозможно. «Гамлетовский вопрос» описанной им ситуации — не в том, что социально и культурно иные «они» (от которых «мы» для автора уже неотличимы) тоже чувствовать умеют, и даже не в том, остались ли какие-то чувства в этом мире, а в том, есть ли в этих чувствах какой-то смысл, отличный, скажем, от скрипа снега под ногами? Имеет ли смысл эмоциональный опыт «маленького человека» в настоящее время? Шаламов дал на этот вопрос ответ безусловно отрицательный. Можно предположить, что этот ответ касается самых экстремальных условий: непосредственного уничтожения. Что же происходит с этим, представленным поначалу одним Шаламовым, типом литературы в условиях послесталинского существования? Герои Шаламова и затем Вен. Ерофеева — не маленькие люди. «Лирический» герой И. Бродского, генетически связанный с «детьми оттепели», — тоже не «маленький человек». Он одновременно предстает как «странник», родственный ерофеевскому герою, и пытается наследовать традиции, существовавшей до культурной катастрофы. В попытке такого совмещения была очевидная парадоксальность — как если бы турки в Малой Азии настаивали на своем происхождении от греческой античности, кочевники — от оседлой культуры… Впрочем, такое невозможное наследование в истории иногда бывало. Главное в подобном установлении генеалогии, как мы помним, — величие замысла…
«Оттепель» завершилась к концу 1960-х. Важнейшим движением, характеризующим свою эпоху и менталитет, явился московский концептуализм 1970–1980-х годов. Лирический герой Вс. Некрасова равен «маленькому человеку»; не отделяет себя от него, во всяком случае никак этого не манифестирует, скорее наоборот: эстетические минимализм и конкретизм как бы буквально подтверждают гуманистическую идентификацию с «маленьким человеком», с «человеком как он есть» в одной-отдельно-взятой жизни в советском социуме. Для Некрасова значима соразмерность — социальная, психологическая, художественная.
У Л. Рубинштейна герой — язык; в его текстах голоса «маленьких людей», при том, что они наполняют пространство этих текстов, как вода — живое тело, и столь же жизненно-необходимы, остаются «частями речи», средствами, компонентами механизма. Рубинштейн не спускается с композиционно-композиторского уровня до «личного». Его повествователь, получается, выше «маленького человека». Пригов — и равен, и выше. Его герой, меняя обличья-имиджи, — это он сам в своих различных состояниях или воплощениях, доведенных до логического — интеллектуального и художественного — предела. Если вспомнить самооопределение М. Л. Гаспарова: точка пересечения социальных отношений. Это определение касается современного и, в частности, если не в особенности, советского человека. Пригов не пытается сузить себя до того или иного «статуарного образа»: он продуцирует состояние «все во мне, и я во всем» в формах своего времени. Он равен маленькому человеку позднесоветской эпохи, поскольку его герой и автор — одновременно и тот, стоящий в очередях, моющий посуду и проч., и поэт, по самому факту этой идентификации, долженствующий быть выше: лучше думать, чувствовать и говорить — называть вещи, называть и определять менталитет своих современников.
Что касается адекватных своей эпохе моделей «маленького человека», то следующим за Приговым этапом, как мне кажется, оказывается месседж героя песен Петра Мамонова 1980-х годов. Герой «Серого голубя», «Отдай мои вещи…» или «У нас была любовь, а теперь ремонт…» — человек социально малый, но малый — с иной, взрывной и свежей физиологически и психологически, энергетикой.
В поэзии схожий образ во второй половине 1980-х годов и начале 1990-х был у героя Андрея Туркина. Но этот герой — «парень с рабочей окраины», с одной стороны, брутально-витальный, с другой, — неврастенически-трогательно-нежный и чувствительный; собственно, вполне в духе «городского романса» и его литературных источников — лирических поэтов «второго ряда» преимущественно второй половины XIX века. Драма героя происходит в гиперреалистически поданном современном антураже, а чувства — оттуда.
Такая брутальность — это брутальность «маленького человека», вскормленного безнадежностью брежневского времени и затерроризированного страхами постсоветских 90-х. Это брутальность безопасная, являющаяся, скорее, приоткрытой беззащитностью человеческого: вся психодрама остается «за прозрачным стеклом» отстраненности, неготовности к сотрудничеству с внешним — даже в форме конфликта. Симптомы подобного соотношения с окружающим (последнее слово обозначает процесс) — асоциальность и дискредитированность прямого пафоса.
В конце 1990-х — 2000-х годах тема «маленького человека» в отечественном контексте достигла, возможно, своего логического предела: внимания к бесконечно-малым живым существам в текстах и художественных работах Юрия Лейдермана. В «Словаре терминов московской концептуальной школы» [276] вводится понятие «давать имена кефирным грибкам», которое определяется как «практика давать индивидуальные имена мизерным и мало отличимым друг от друга объектам».
Впервые об этой практике говорилось в рассказе Юрия Лейдермана «Дима Булычев», написанном в 1996 году [277]. Затем этот образ получил развитие в серии художественных работ, созданных на рубеже 1990-х и 2000-х. В 2003 году при участии Лейдермана был снят фильм «Кефирные грибки отправляются в полет» [278]. Может быть, они отправлены в полет, в космос, потому что на земле, или, во всяком случае, в данном социокультурном контексте, таким персонажам уже не осталось места?