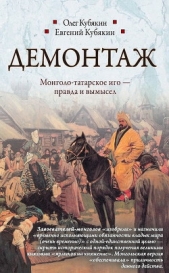Синтез целого

Синтез целого читать книгу онлайн
В книге определяются пути развития лингвистической поэтики на рубеже XX–XXI веков. При этом основной установкой является заглавная идея «синтеза целого», отражающая не только принцип существования художественных текстов и целых индивидуально-авторских систем, но и ведущий исследовательский принцип, которому следует сам автор книги. В монографии собраны тексты, написанные в течение 20 лет, и по их последовательности можно судить о развитии научных интересов ее автора. С лингвистической точки зрения рассматриваются проблемы озаглавливания прозаических и стихотворных произведений, изучается феномен «прозы поэта», анализируется эволюция авангардной поэтики с начала XX века до рубежа XX–XXI веков. Для анализа привлекаются художественные произведения А. Пушкина, Ф. Достоевского, В. Набокова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, Д. Хармса, Л. Аронзона, Е. Мнацакановой, Г. Айги и многих других поэтов и писателей XIX–XXI веков.
Книга имеет междисциплинарный характер. Она предназначена для лингвистов, литературоведов и специалистов широкого гуманитарного профиля.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В последней из этих трех строк содержится явное противоречие: приставка без- указывает на полное отсутствие признака «язычности», в то время как элемент все-, равный определительному местоимению, заявляет о признаке «полноты, без изъятия, целиком», то есть является оператором всеобщности (по контрасту с существующим в общем языке прилагательным многоязычен). Это противоречие И. Бродский разрешает следующим образом: «Довод, который Цветаева приводит в свое оправдание — „потому что тот свет… не без-, а все-язычен“, — замечателен прежде всего тем, что он перешагивает через психологический порог, где почти все останавливаются: через понимание смерти как внеязыкового опыта, освобождающего от каких-либо лингвистических угрызений. „Не без-, а все-язычен“ идет гораздо дальше, увлекая за собой совесть к ее истоку, где она освобождается от груза земной вины. В этих словах есть ощущение как бы широко раскинутых рук и праздничность откровения, доступного разве что ребенку — „тринадцати, в Новодевичьем“» [Бродский 1992: 111–112].
В другом месте данного стихотворного послания, адресованного умершему поэту, обнаруживается еще одно парадоксальное поэтическое уравнение:
Здесь Цветаева называет свое первое общение с Рильке после его смерти одновременно и «встречей» и «разлукой», и в то же время «не разлукой» и «не встречей». Единственный эквивалент этого события — «очная ставка». «Достоверность цветаевской метафизики, — пишет Бродский [1992: 115], — именно в точности ее перевода с ангельского на полицейский, ибо „очная ставка“ — всегда и встреча, и разлука: первая и последняя». Эпитет «ангельский» по отношению к языку общения между поэтами, один из которых еще находится на «этом» свете и пишет по-русски, другой — уже на «том», но оставил свои стихотворения на немецком, выбирает сама М. Цветаева:
Обращаясь к Рильке по-немецки «любимый» (Du Lieber), Цветаева использует, по ее мнению, не собственно другой язык, но язык иной по звучанию, чем русский. Бродский, оценивая это иноязычное вкрапление, пишет, что «ощущение, возникающее прежде всего в результате употребления иностранного слова, — ощущение непосредственно фонетическое и поэтому как бы более личное, частное: глаз или ухо реагируют прежде рассудка. Иными словами, Цветаева употребляет здесь Du Lieber не в его собственно немецком, но в над-языковом значении» [там же: 113]. В этих же строчках вновь мы сталкиваемся с парадоксальным разрешением ситуации одновременного «бытия-небытия» в пространстве: и единственным местом на земле, где «несть» (устарелая форма, в которой встречаются «не» и «есть»), то есть нет Рильке, оказывается его «могила» — место погребения умершего на земле. Параллельно эта архаичная форма «несть» оказывается омофоничной немецкому существительному Nest со значением «гнездо» (на это указывала еще Л. B. Зубова [1989: 76–77]):
Таким образом, местом обитания поэта после смерти оказывается не могила, а «гнездо» (вспомним, что образ поэта традиционно соотносится с образом птицы), и обозначающее его в русском языке слово во множественном числе образует «все гнезда покрывающую рифму» со словом «звезды». Снова мы имеем дело с «всеобщностью», на этот раз рифмующихся и близкозвучных слов, которые определяют путь от временного земного пристанища к вечному небесному (несть — Nest / гнёзда — звёзды). Межъязыковая интерференция становится «все-язычным» способом поэтического выражения, который позволяет преодолеть не только границы определенного языка, но и границы «жизни и смерти». Недаром сама Цветаева подчеркивает условность перехода из состояния «бытия» в иное «бытие», используя потенциальные возможности знака кавычек:
Заметим, что в самом тексте этих кавычек, которые по своей функции призваны перевертывать смысл высказывания и лишать его однозначности и определенности, нет. Это еще один парадокс Цветаевой: называть то, чего нет, и этим вводить новую реальность, противоположную обыденной. Бродский отмечает при этом, что Цветаеву всегда нужно понимать «буквально», а именно что «жизнь» и «смерть» представляются поэтессе «неудачной попыткой языка приспособиться к явлениям, и более того — попыткой, явление это унижающей тем смыслом, который в эти слова вкладывается: „заведомо-пустые сплёты“» [Бродский 1992: 106]. Показательно, что Цветаева использует необычное для современного русского языка слово «сплёты», одновременно отсылающее и к «сплетням», и к «сплетениям». Из этого необычного «переплетения» значений слова «сплёты» рождается новый поэтический смысл, а именно: пересказ значения слов «жизнь» и «смерть» на любом языке окажется неверным, это будут лишь вымыслы о том, о чем имеется очень смутное представление. В то же время из необычного «сплетения» контрастных понятий и рождается тот нужный поэту смысл, к которому ведет его язык, или, по-цветаевски, «речь». Как мы помним, в стихотворении «Поэты» (1923), открывающемся строками («Поэт — издалека заводит речь. / Поэта — далеко заводит речь»), Цветаева как раз и ищет ту область языкового выражения, которая находится между «да и нет», и находит ее в только в нарушении причинности, поскольку «путь поэта» имеет ту же траекторию, что и комета:
Значит, «развеянные звенья причинности» и есть основа связи поэтических смыслов в мире Цветаевой, тем более что эта «связь» подсказывается самим звуковым подобием слов, первое из которых отрицает смысл последующих: ср. развеянные — звенья — сеть. Но, видимо, глагол «развеять», означающий действие «разведения в разные стороны», а в переносном смысле — «рассеивания», здесь выбран не случайно. В сочетании с существительным звенья («часть цепи, некоторого целого») он лучше всего передает специфику развертывания поэтической мысли Цветаевой: разъединение для нового соединения, в котором уже действуют свои особые законы логики и причинности (недаром словосочетание звенья / Причинности разделено стиховым переносом).
Мы хотим привлечь внимание читателя к еще некоторым значимым «сплётам» языка Цветаевой. Ключевыми словами-понятиями, вступающими в новые необычные связи, будут ранее рассмотренные нами выше «расставание», «разлука» и «встреча», причем смыслы «удаления» и «сближения» в этих словах приобретают в текстах поэтессы неординарную сюжетную перспективу как в пространстве, так и во времени.