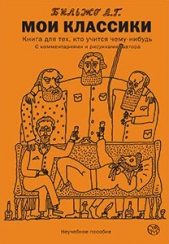«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели

«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели читать книгу онлайн
«Диалог с Чацким» — так назван один из очерков в сборнике. Здесь точно найден лейтмотив всей книги. Грани темы разнообразны. Иногда интереснее самый ранний этап — в многолетнем и непростом диалоге с читающей Россией создавались и «Мертвые души», и «Былое и думы». А отголоски образа «Бедной Лизы» прослежены почти через два века, во всех Лизаветах русской, а отчасти и советской литературы. Звучит многоголосый хор откликов на «Кому на Руси жить хорошо». Неисчислимы и противоречивы отражения «Пиковой дамы» в русской культуре. Отмечены вехи более чем столетней истории «Войны и мира». А порой наиболее интересен диалог сегодняшний— новая, неожиданная трактовка «Героя нашего времени», современное прочтение «Братьев Карамазовых» показывают всю неисчерпаемость великих шедевров русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Судя по всему, пестрой была и первая реакция на роман: заинтригованная публикациями в "Отечественных записках" ("Бэла", "Фаталист", "Тамань"), публика, кажется, слегка растерялась: "Княжна Мери", прочитанная впервые лишь в отдельном издании, сбивала с уже сложившегося мнения о Григории Александровиче Печорине как о человеке, может быть, и не идеальных достоинств, но все‑таки вполне приличном. Пошли толки, раздался ропот: уж очень не хотелось признавать, что современный человек, которого все, разумеется, слишком часто встречали, может быть так "дурен". А тут еще эта пустая, светская дуэль! Преодолев разночинскую застенчивость, Виссарион Григорьевич решился на не свойственный ему поступок: упросил А. Краевского устроить свидание с Лермонтовым, находившимся под арестом в Ордонанс–гаузе. Они встречались на людях и раньше, но, оставшись с Михаилом Юрьевичем тет–а-тет, Белинский открыл "настоящего Лермонтова". И тут же в этого, настоящего, со свойственным ему пылом влюбился, о чем и отписал в Москву В. Боткину: "Недавно был я у него в заточении… Глубокий и могучий дух!.. О, это будет русский поэт с Ивана Великого!.. Печорин — это он сам, как есть". И Белинский очертя голову кинулся защищать Лермонтова— "восстал… против мнений света". Он и дуэль‑то старался сам перед собой повернуть выгодной стороной — проучил, мол, француза! А так как, в беспамятстве восторга, проглотив единым духом роман (может быть, даже по сигнальному экземпляру, ведь знаменитое свидание состоялось в начале апреля, а первые авторские экземпляры Лермонтов начал раздаривать лишь в конце месяца), уже решил: Печорин и есть Лермонтов, то и не делал между ними разницы: защищая Печорина, защищал Лермонтова! И от клеветы друзей, и от мстительных выпадов врагов! И так увлекся, что, работая над статьей, тоже в горячке (первая ее часть опубликована в июньской книжке "Отечественных записок"), в номер ("к сроку и к спеху, сочиняя и пиша в одно и то же время"), уже и не замечал, что приводит подробности, в тексте романа отсутствующие. "Есть люди, — горячился Белинский, — в которых потребность жизни так сильна, что составляет их мучение до тех пор, пока не удовлетворится… И вот, когда такие люди бросаются всюду, ища удовлетворения, и не находят его, их отчаяние порождает клеветы на вечные законы разумной действительности". Какое отношение имеет эта сентенция к Печорину? Да никакого! Просто в редакции "Отечественных записок", на которую денно–нощно работает Белинский, все читают лермонтовскую "Благодарность" (стихотворение опубликовано в том же номере, что и начало статьи о "Герое нашего времени"), и Виссарион Григорьевич никак не может не откликнуться и на нее!
И вот еще какую тонкость следует принять в соображение: дуэль крайне осложнила прохождение лермонтовских рукописей. Прежде, чем послушнейший цензор А. В. Никитенко выдал "выпускной билет" — подписал в печать сборник стихотворений Лермонтова (октябрь 1840 г.), А. Краевскому пришлось похлопотать–постараться. Заступаться в этих условиях за подвергшегося опале автора было по меньшей мере недипломатично; во всех отношениях проще и вернее — защищать право Печорина на "клеветы".
Но дело, конечно, не только в этих как бы внелитературных обстоятельствах. Белинского, полагавшего, что даже "Капитанская дочка" — "не больше как превосходное беллетристическое произведение" с поэтическими и художественными "частностями", "Герой нашего времени" ошеломил своей "особостью", "полнотой впечатления", а главное — эстетическим совершенством:
"Истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится одна красота".
Похоже, эта‑то красота (а "она вся в форме"!) и ослепила Белинского! И он, при всей своей сверх зрячести и сверхчуткости, не заметил того, что так ясно почувствовал В. Г. Плаксин, посредственный литератор, преподававший в Юнкерской школе русский язык и литературу: "Какое отношение имеет Печорин из Тамани к Печорину, обольстителю Бэлы? Никакого".
Чисто эмпирическое наблюдение Плаксина подтвердилось в процессе научного изучения трех дошедших до нас редакций романа. "В тексте "Тамани", — цитирую комментарий Б. Эйхенбаума к последней книге академического шеститомника, — есть признаки того, что новелла была написана прежде, чем определилась вся "цепь повестей". Предпоследний абзац новеллы кончался и в рукописи, и в журнальном тексте следующими словами: "Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и как камень едва сам не пошел ко дну, а право я ни в чем не виноват: любопытство — вещь свойственная всем путешествующим и записывающим людям". Последние слова, снятые в отдельном издании "Героя нашего времени", есть в тексте "Бэлы", где их произносит не Печорин, а сам автор: "Мне страх хотелось вытянуть из него какую‑нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям". Наличие этих слов в первоначальном тексте "Тамани" дает право думать, что новелла была написана раньше "Бэлы" и без связи с Журналом Печорина.
Б. Удодов, проанализировав все имеющиеся в нашем распоряжении тексты и свидетельства, в том числе и предположение И. Андроникова, что в раннем наброске "Я в Тифлисе" содержатся в "зародыше" сюжеты и "Тамани" и "Фаталиста", идет еще дальше: "…"главы" романа "Тамань" и "Фаталист" были написаны прежде, чем возник и оформился его замысел".
Формального права на подобную категоричность у нас вроде бы нет, если иметь в виду не зародыш сюжета, а законченное произведение, так как "Фаталисту" при первой, в "Отечественных записках", публикации предпослано следующее разъяснение — от автора: "Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина".
Но по существу, столь формальное разъяснение наверняка свидетельствует лишь о том, что к моменту публикации (конец 1839 г.) цепь повестей уже завязалась в роман. Не пересказывая здесь всех доводов Б. Удодова (это заняло бы слишком много места) и отсылая тех, кого заинтересует ход доказательств, к его работе "Из творческой истории "Героя нашего времени"" (в книге "М. Ю. Лермонтов". Воронеж, 1973), прибавлю к ним еще несколько соображений.
Первое: внимательное чтение "Фаталиста" и в самом деле наводит на мысль, что это единственная главка в "Герое…", к которой почти без натяжки может быть приложено мнение Белинского: "Печорин — это он сам, как есть". Недаром С. А. Раевский, по словам В. Хохрякова, первого собирателя материалов к биографии поэта, уверял, что "Фаталист" — истинное происшествие, в коем участвовали и Лермонтов, и Столыпин-Монго. Лермонтоведы сомневаются в истинности данного сообщения—оно не подтверждается другими свидетельствами. Конечно, В. Хохряков вполне мог и запомнить неточно, и передать неверно. Однако, учитывая особый характер отношений между Лермонтовым и Раевским (рукой Раевского, под диктовку автора, записано несколько глав "Княгини Лиговской"; ему же адресованы подробнейшие отчеты Лермонтова о кавказских впечатлениях в период первой ссылки), пожалуй, все‑таки можно, в порядке гипотезы, предположить, что Раевский либо слышал от Михаила Юрьевича этот рассказ, либо видел его запись до того, как родилась идея "Героя нашего времени".
Второе. В "Фаталисте", так же, как в "Тамани", нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало журнальные "заметы". Это классическая новелла с характерной для данного жанра туго затянутой пружиной сюжета. К цепи повестей ее подключают лишь две вставки: обращение Вулича к Печорину и концовка: "Возвратись в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною…"