Письменный стол
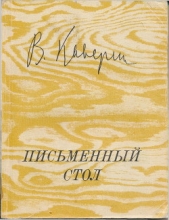
Письменный стол читать книгу онлайн
В новой книге В. Каверина рассказывается о его встречах с известными писателями и артистами Фадеевым, Зощенко, Тыняновым, Паустовским, Твардовским, Антокольским, Андрониковым, Лихачевым, Улановой, Н. Дорлиак, со многими другими интересными людьми. Впервые публикуются их письма к нему. Включены интервью последних лет, отражающие литературные взгляды Каверина, несколько его эссе, посвящённых современной советской прозе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он мог бы повторить свою речь в наши дни, пе изменив почти ни одного слова.
Доклад А. Толстого напомнил мне лекцию Тынянова, прочитанную на моём семинаре в Институте истории искусств. Толстой говорил о жесте как основе художественного языка, доказывая свою мысль с изобразительной силой: «Нельзя до конца прочувствовать старинную колыбельную песню, не зная, не видя чёрной избы, крестьянки, сидящей у лучины, вертящей веретено и ногой покачивающей люльку. Вьюга над размётанной крышей, тараканы покусывают младенца. Левая рука прядёт волну, правая крутит веретено, и свет жизни только в огоньке лучины, угольками спадающей в корытце. Отсюда — все внутренние жесты колыбельной песни».
Мне понравилась речь Андре Мальро, выступившего от имени писателей Запада. Он говорил, что сила доверия создала новую женщину, свободную от тысячелетней косности быта, и превратила беспризорников в пионеров. Мораль доверия к писателю и поэтические открытия — вот две силы, которые способны высоко поднять значение советской литературы.
Всех глубоко тронуло выступление Бориса Пастернака. «Двенадцать дней я из–за стола президиума вместе с моими товарищами вёл со всеми вами безмолвный разговор. Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, объяснялись знаками и перекидывались цветами. Двенадцать дней объединяло пас ошеломляющее счастье того факта, что этот высокий поэтический язык сам собой рождается в беседе с нашей современностью, современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого».
Долго думал я, выступать мне или нет. Речь Олеши решила этот вопрос в отрицательном смысле. Сомнения, от которых я почти избавился, вновь вспыхнули, когда я услышал эту болезненно–острую исповедь. То, о чём я робко и неуверенно думал, прозвучало в этой речи с неожиданной силой. он не надеялся на счастливое будущее, он не искал выхода для решения вопроса, стоит ли пожертвовать хотя бы самой малой долей правды для того, чтобы писать книги, которые не пострадают от этой неполноты. Он вообразил себя давно бросившим перо и зарабатывающим на жизнь подаянием. Эта речь была рассказом о преследовавшем его образе нищего, в котором он видел себя и который невольпо нарисовался передо мною. Он упрекал критиков, заставивших его усомниться в собственном даровании. И, слушая его, я невольно вспомнил наш последний разговор, когда он епросил меня: «Каверин, зачем вам писать? Ведь вы уже научились». Прощаясь, мы тогда заговорили о «Зависти», и он грустно сказал: «Так вы думаете, что «Зависть» — это начало? Это конец». Поразившая меня неуверенность в себе болезненно отозвалась в моём сознании, потому что и я всегда был неуверен в себе, — вот с чем мне пришлось впоследствии бороться всю жизнь, и не без успеха.
После речи Олеши, в которой часть моих мыслей нашла необычайно яркое, откровенное и горькое выражение, я решил не выступать, тем более что искренне считал Олешу мастером, а себя — подмастерьем. Впрочем, это была не единственная причина, по которой я отклонил предложение Тихонова принять участие в общей дискуссии.
Первый съезд был событием, не повторившимся в нашей литературной жизни. Он нашёл выражение в той подкупающей искренности, правдивости, с которыми говорилось на нём о деле литературы. О съезде можно смело сказать: «В начале было дело». Причем любопытно, что этот съезд загадочным образом коснулся решительно всех сторон нашей многообразной жизни. Литература становилась явлением «централизованным», все нити соединились в Москве.
На съезде выступил, например, делегат в наглухо закрывавшей лицо чёрной маске, названный председателем в высшей степени неопределённо. Это был иностранец, скрывавшийся от разведки и получивший приказ приветствовать съезд советских писателей от организации, борющейся за свободу.
Крайне важным для нас оказалось выступление Отто Юльевича Шмидта, который с присущей ему математической ясностью рассказал о своих наблюдениях над участниками зпаменитого похода. В лагере было только четыре книги (он Каялся впоследствии, что не подобрал для челюскинцев библиотеку), и среди них — томик Пушкина. Трудно переоценить значение, которое имели эти книги. Своей гениальной организованностью, стройностью своего внутреннего склада мир Пушкина незримым образом связывался с необходимостью подобной же стройности в трудном деле нравственного совершенствования, нужного для привыкания друг к другу, для работы на льдине. Иными словами, немногие книги командовали нравственным общением, и об этом Шмидт говорил бесконечно яснее, чем мог бы сказать я.
Поведение и образ жизни челюскинцев диктовали нравственную атмосферу далеко за пределами шмидтовской льдины. Ни одно слово Шмидта с тех пор не устарело, и его речь я бы советовал напечатать в виде брошюры для подростков, избирающих жизненный путь.
В конечном счёте, надо отметить, что тон всему съезду был задан речью Горького, измерявшего нашу новую культуру на шкале всемирной истории. Не упоминая присутствующих поимённо, Горький призвал всех нас помнить о главном — о человеческом достоинстве, о честности и принципиальности, с которыми мы, советские писатели, просто обязаны относиться к личности каждого человека. «Человек человеку, — сказал Алексей Максимович, — должен быть только сотрудником, другом, соратником, учителем, а не владыкой разума и воли его».
И, вероятно, только теперь, после всех исторических катаклизмов минувших десятилетий, можно вполне оценить его тогдашнее предостережение: «Вождизм» — это болезнь эпохи, она вызвана пониженной яшзнеспособностыо мелкого мещанства…»
Что касается общего направления развития советской литературы, то Горький определил его как революционно романтическое. Теоретически он сформулировал это положение так: «…Если к смыслу извлечений из реально данного добавить — домыслить но логике гипотезы — желаемое, возможное и этим ещё дополнить образ — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир».
Суждение это я запомнил, и в моей дальнейшей работе оно имело решающее значение.
Съезд был явлением обязывающим, потому что в основе его лежало стремление к искренности, рождающейся в спорах. Это было событие, я бы сказал — «развёртывающееся событие». Литературные схватки касались самых серьёзных, действительно дискуссионных, проблем.
Мне кажется, поэты на съезде говорили с большей определённостью и блеском, чем представители других родов литературы. В их речах была та яркая и узнаваемая существенность детали, которой порой не хватало выступавшим. Достаточно вспомнить вдохновенную импровизацию Пастернака, его искромётные прозрения. «Чистая проза в её первородной напряжённости и есть поэзия». Мне представляется, что заключительный пастернаковский аккорд должен звучать в душе каждого художника. «Не жертвуйте лицом ради положения».
Мы мало думаем о том, что наше государство состоит из самых разных людей — и по своему характеру, и по своему происхождению. На съезде выступали представители народностей, у которых литература только зарождалась. Но и национальные литературы с древними корнями, такие, как, например, армянская или грузинская, тоже заявили о своём существовании в гораздо более ясной перспективе. Ощущение, что каждого автора теперь слушают не только на его родном языке, было одним из мажорных и обнадёживающих. Мы осознавали, что ответственны перед всеми языками страны и, в конечном счёте, — перед всеми языками мира.
Трудно переоценить то значение, которое лично для меня имела встреча на этом съезде с украинскими, белорусскими, армянскими, грузинскими литераторами. Уже в том же 1934 году, после съезда, я побывал в Армении, выступал там с лекциями о Ваане Теркине в Ереванском университете и делился с друзьями впечатлениями о поразившей меня армянской поэзии…
Как у моря, у съезда были отливы и приливы, но одна черта была некоторым образом несогласна с этой повторяющейся закономерностью. Каждый говорил о своём и, одновременно, о литературе. И сейчас поражаешься тому, как смело высказывали свои убеждения Пастернак, Тихонов, Первомайский, Тициан 'Габидзе… Вспоминается Бабель, напряжённо шутивший на съезде над своим неслучайным молчанием… Неистовый Егише Чаренц, бюст которого, со склонённой головой, стоит теперь у школы его имени в Ереване…
























