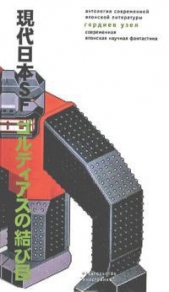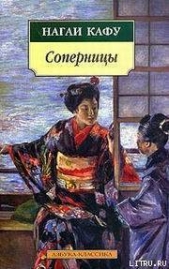Очерки японской литературы
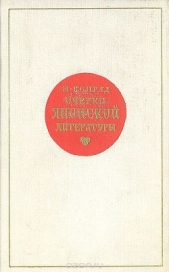
Очерки японской литературы читать книгу онлайн
К 64 Конрад Н. И.
Очерки японской литературы. Статьи и исследования. Вступ. статья Б. Сучкова. М., «Худож. лит.», 1973.
Труд выдающегося советского ученого-востоковеда Н. И. Конрада (1891—1970)—по сути, первая у нас история японской литературы, содержит характеристику ее важнейших этапов с момента зарождения до первой трети XX века.
Составленная из отдельных работ, написанных в разное время (1924—1955), книга при этом отмечена цельностью научной историко-литературной концепции.
Вводя читателя в своеобразный мир художественного мышления японцев, Н. И. Конрад вместе с тем прослеживает историю японской литературы неотрывно от истории литератур всего мира. Тонкие наблюдения над ншвым художественным текстом, конкретный анализ отдельных произведений сочетаются в книге с широкими типологическими обобщениями, выявляющими родство культурообразующих процессов Японии с литературами других стран Азии и Европы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Один из современных историков японской литературы - Игараси [1] — обращает наше внимание на несколько мест в самом романе, которые звучат как бы своего рода декларацией от лица самого автора и, во всяком случае, очень хорошо передают как будто точку зрения самой Мурасаки и на сущность романа вообще, и на его выразительные средства, и на тот материал, который может быть взят в его основу как тема. В самом деле: эти замечания Мурасаки настолько многозначительны, что могут служить превосходной путевой нитью во время «критических блужданий» по всему запутанному лабиринту лиц, обстановки, положений и идей «Повести о Гэндзи».
Первое положение, о котором говорит Игараси, помещается в XXV главе романа («Хотару») и гласит следующее:
«Моногатари описывают нам все, что случилось на свете (Ёни ару кото), начиная с самого века богов. Японские исторические анналы («Нихонги») касаются только одной стороны вещей (катасоба дзо).
А в повестях содержатся всевозможные подробности.
Автор, конечно, не рассказывает так, как оно есть на самом деле (ари-но мама-ни), называя каждого своим именем. Он передает только то, что не в состоянии оставить скрытым в своем сердце; все, что он видел и слышал в человеческой жизни в этом мире,— и хорошее и плохое».
Что, собственно, значат эти слова? Можно думать, что они освещают три пункта в истории японского классического романа, ту ступень, на которой этот роман находился в эпоху Мурасаки; то воззрение на него, которое характерно и для этой эпохи вообще, и для автора в особенности; и, наконец, ту тенденцию, которая стала присуща в это время этому жанру, и в первую очередь самой «Повести о Гэндзи».
Мурасаки в этих словах, вложенных ею в уста своего главного героя, решается высказать чрезвычайно смелую и, в сущности, новую для Японии тех времен мысль: она ставит литературный повествовательный жанр рядом с историческим повествованием — по основному характеру того и другого: оба эти рода повествуют о прошлом. Но она этим не ограничивается: она рискует утверждать, что роман выше истории, причем не с художественной точки зрения, то есть не с чисто литературной стороны, но исходя даже из принципов и задач самой истории; роман повествует обо всем, касается всех подробностей; передает это прошлое во всей его полноте. Мурасаки осмеливается сказать даже то, что до нее, кажется, никто не решался произнести: знаменитые японские анналы — «Нихонги», вторая рядом с «Кодзики» классическая книга Японии,— ниже романа. Она — односторонняя, не передает всей полноты содержания прошлого. Нужно быть японцем, чтобы почувствовать всю смелость такого заявления, особенно в те времена.
О чем это говорит? Во-первых, о том, что, очевидно, в культуре того времени, в сознании образованных читающих кругов общества роман стал занимать уже очень значительное место. Он перестал быть забавой, годной разве лишь для женщин и детей. Образованные мужчины перестали видеть альфу и омегу литературы вообще в одной только китайской литературе: ими стала признаваться литература на родном японском языке. Более того: воспитанные на высоких жанрах китайской литературы, то есть на историческом повествовании, философском рассуждении, художественной прозе типа «гувэнь», китайском классическом стихе, иначе говоря, с презрением относившиеся к «литературе фикции» — рассказу, роману и т. и.— эти образованные круги хэйанского общества признали наконец и этот низкий жанр, и не только признали, но склонны были даже,— если только Мурасаки в «Гэндзи» отражает общее настроение,— говорить о романе даже рядом с историей. Таков результат сильнейшего развития японского классического романа за одно столетие его существования. Он получил полное право гражданства, как серьезный, полноценный литературный жанр.
Помимо этого, приведенные слова Мурасаки свидетельствуют еще об одном: о выросшем самосознании самого писателя. Писатель прекрасно сознает теперь всю значительность своей работы: для Мурасаки писание романа — уже более не создание материала для развлечения скучающих в отдаленных покоях женщин, но работа над воссозданием картин человеческой жизни, и притом — во всех ее проявлениях: и хороших и дурных. Это опять ново для японского писателя тех времен: в словах Мурасаки звучит подчеркнутое сознание важности своего дела.
И, наконец, в-третьих: вся эта тирада определяет и ту тенденцию, по которой развивается и сам роман Мурасаки, и тем самым должен развиваться, по крайней мере по ее мнению, всякий роман. Эта тенденция характеризуется прежде всего реализмом. Повествуется о том, что было; но в то же время реализмом художественным, не так, как оно было на самом деле. Иными словами, автор подчеркивает момент обработки фактического материала, считая его столь же существенным для жанра моногатари, сколь и действительную жизненную канву для фабулы.
Эта реалистическая тенденция Мурасаки целиком подтверждается всей историей повествовательной литературы не только времен Хэйана, но, пожалуй, даже на всем ее протяжении. «Гэндзи», пожалуй, наиболее чистый и яркий образец подлинного художественно-реалистического романа. Повествовательный жанр до него («Такэтори», «Оти- кубо», «Уцубо») строился отчасти на мифологическом, сказочном, легендарном, отчасти на явно вымышленном материале; повествовательная литература после него («гунки», «отогидзоси», всякого рода «сёсэцу» эпохи То- кугава) отчасти основана на сказаниях или особо воспринятой и идеализированной истории, отчасти, впадая в натурализм, переходит в противоположную крайность. Так или иначе, бесспорно одно: большинство произведений японской повествовательной литературы стремится дать что-нибудь особо поражающее, трогающее или забавляющее читателя; в то время как «Гэндзи» к этому решительно не стремится: он дает то, что заполняет повседневную обычную жизнь известных кругов общества той эпохи; дает почти в тоне хроники, охотно рисуя самые незначительные, ничуть не поражающие воображение читателя факты: никаких особенных событий, подвигов, происшествий, на чем держатся, например, камакурские гунки, в «Гэндзи» нет; нет также и того гротеска деталей и незначительных подробностей, гиперболичности построения и стремления к типизации выводимых образов, что так характерно для токугавской прозы. Мурасаки рисует обычную жизнь, не выбирая громких событий: показывает действительных людей, не стремясь изображать типы. Эго подмечено большинством японских исследователей этого романа, и это сразу же становится очевидным при чтении самого произведения.
Второе заявление Мурасаки, на которое обращает наше внимание Игараси, находится в XXXII главе романа («Умэгаэ») и заключается в следующих словах:
«Свет в наше время измельчал. Он во всем уступает старине. Но в кана наш век поистине не имеет себе равного. Старинные письменные знаки как будто — точны и определенны, но все содержание сердца в них вместиться не может».
Для всякого, кто знаком с историей японского языка, эти слова Мурасаки представляются не только совершенно обоснованными и правильными по существу, но и крайне важными для надлежащей оценки самого ее романа.
На что указывает это заявление? Во-первых, па то, что японский язык, чистый национальный язык «Ямато» (здесь сказано: кана), еще не обремененный китапзмами или воспринявший их только в минимальной, не искажающей его облик дозе, этот японский язык на рубеже X—XI веков достиг своего развития, не сравнимого с тем, что было до сих пор. Во-вторых, на то, что этот развившийся язык явился прекраснейшим выразительным средством для литературы: он превратился в лучшее орудие и материал подлинного словесного искусства. И, наконец, в-третьих, в этих словах Мурасаки сквозит некоторое принципиальное противопоставление японского языка китайскому.
В самом деле, если обратиться к фактам истории японского языка того времени, то мы увидим перед собою, в сущности, два процесса: постепенное развитие (в силу внутренних факторов) национального японского языка и постепенное внедрение в него китайского. Разговорный язык того времени (конечно, в среде правящего сословия), по-видимому, в значительной степени уже соединял в себе элементы и того и другого, однако еще не слившиеся в одно органическое целое, как это случилось потом. Что же касается языка литературы, то здесь мы сталкиваемся с двойным явлением: японский язык как таковой был еще недостаточно развит, чтобы служить всем задачам словесного искусства; литературным языком по преимуществу был китайский, и вся «высокая» литература эпохи писалась по-китайски. Таким путем получился так называемый «камбун» — японская литература на китайском языке, и «вабун» — японская литература на японском языке.