История всемирной литературы Т.8
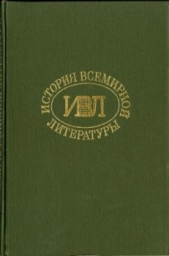
История всемирной литературы Т.8 читать книгу онлайн
Восьмой том посвящен литературе рубежа XIX и XX веков, от 1890-х годов, т. е. начала эпохи империализма, до потрясших в 1917 г. весь мир революционных событий в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В 90-е годы к собственно художническому типу символизма тяготели В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, Ю. К. Балтрушайтис (1873—1944), отчасти И. И. Коневской (Ореус, 1877—1901) и М. А. Лохвицкая (1869—1905), а также И. Ф. Анненский (1855—1909), опубликовавший свои тогдашние стихи лишь в начале нового века. Понимание символизма как эстетико-религиозной доктрины и выражающего ее искусства разделяли Д. С. Мережковский (1866—1941), Н. М. Минский (1855—1937), З. Н. Гиппиус (1869—1945).
Новый этап мистического символизма обозначился с начала 900-х годов в выступлениях и поэзии Андрея Белого (Б. Н. Бугаева), Вяч. И. Иванова, А. А. Блока, С. М. Соловьева, Эллиса (Л. Л. Кобылинского). Однако непроницаемой преграды между двумя потоками в символистском течении не было. Показателен пример поэта Александра Михайловича Добролюбова (1876—1944?). «Крайний эстет», по слову Брюсова, индивидуалист и декадент в стихах сборника «Natura naturans. Natura naturata» («Природа творящая. Природа сотворенная», 1895), Добролюбов вскоре ушел в народ богомольцем, сблизился с сектантами. «Евангелие от декаданса» (слова Плеханова о творчестве Минского) не раз пересекалось в русском символизме с декадансом «без Евангелия». Вместе с тем единства не было и внутри каждого из двух потоков; так, Белый, Иванов и особенно Блок отвергали религиозно-обновленческую догматику Мережковского.
Впоследствии Белый скажет, что символистов разного толка объединяло прежде всего их «нет». И брюсовцы, и сторонники Мережковского, как и «младшие» символисты, сходились в неприязни к материалистическому мировоззрению, к утилитаризму в эстетике. Единодушно осуждали они «ненужную правду» натурализма с его «удвоением действительности» (Брюсов о Художественном театре), которую усматривали и во многих явлениях современного реалистического творчества. В условиях возраставшей специализации науки и философского кризиса естествознания перед лицом его же великих открытий рубежа веков романтическое недоверие к рационализму, сциентизму получало новые аргументы. Преодоление застоя буржуазной философии и культуры, скованных «мертвенным позитивизмом» (Мережковский), виделось в «возвращении русской мысли к идеализму». Это пророчил философ-мистик и поэт Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900), властитель дум многих символистов. Несовершенному рационально-логическому познанию, способному дать лишь «бледнейший первообраз» сущего (А. Белый), противопоставлялось — в духе Шопенгауэра — интуитивное постижение мира в творческом акте. Символисты любили повторять строки Фета: «Можно ли трезвой то высказать силой ума, // Что опьяненному муза прошепчет сама?»
Искусство полагалось ценностью высшей, чем наука, и соизмеримой лишь с религией, «очищенной» от ржавчины официальной церковности. Среди искусств в духе романтической эстетики особенно почиталась музыка, наименее «рассудочный» и тем самым наиболее «провидческий» тип творчества, проникающий в «тайну бытия» (А. Белый). Воздействие произведения объяснялось не только и не столько его содержанием, сколько суггестивной силой, «магичностью» (Брюсов). Роль художника виделась как пророческая и ведущая к «преображению вселенной» (Вяч. Иванов).
Этико-эстетическая утопия русских символистов уходила своими корнями во многие пласты отечественной и иноземной идеалистической мысли. Символисты были многим обязаны объективному идеализму Платона с его антитезой горней сферы «вечных» идей и земного круга их «преходящих» воплощений. Проводником платонизма были лирико-философские медитации Вл. Соловьева, звавшего находить «под грубою корою вещества» «нетленную порфиру» высшего начала:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
В сфере социологии и эстетики многие символисты, «старшие» (Мережковский, Минский, З. Гиппиус) и «младшие» (А. Белый, Вяч. Иванов), разделяли христиански-социалистические представления Достоевского и Вл. Соловьева, их убежденность в том, что «Красота спасет мир», что она — «первая сила» в борьбе со злом и вместе с Добром и Истиной залог грядущего «всеединства», мировой гармонии. Вслед за Шеллингом, иенскими романтиками, Карлейлем, Вагнером, Ибсеном «революция духа» — нравственное и умственное возвышение независимой личности — противополагалась освобождению социально-политическому. Слова Гоголя «В душе ключ всего» понимались расширительно; панацея духовно-нравственного преображения человека как пути к обновлению общества принималась во множестве вариантов (масоны, «любомудры», славянофилы, Достоевский, Л. Толстой). Вместе с тем многокорневая культура символизма вобрала и влияния Шопенгауэра, Ницше, Уайльда, Э. По, а также французских и бельгийских поэтов 50—90-х годов XIX в. (Бодлер, Верлен, Малларме, Метерлинк, Верхарн). Весьма существенным был опыт отечественной поэзии — Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Фета, а также Полонского, Фофанова, Случевского.
Среди разнонаправленных духовных исканий времени русские символисты обеих групп оказались на линии «борьбы за идеализм», усилившейся в конце века в противовес распространению материализма. Они разделяли идеи Вл. Соловьева о том, что капиталистический строй дробит личность, сеет «атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в культуре» и что материализм есть порождение буржуазного сознания. Символистов привлекала та критика материалистической философии и эстетики, в частности идей русских революционных демократов, которую развернул в 90-е годы А. Волынский в журнале «Северный вестник». Аналогичный смысл имела война с поздним передвижничеством в первом журнале русских модернистов «Мир искусства» (1899—1904), организованном С. Дягилевым и А. Бенуа. Несмотря на некоторые мировоззренческие и творческие разногласия с организаторами этих журналов, символисты в них печатались. Так, в «Мире искусства» появилось обширное исследование Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», невзирая на то что окрасившая этот ценный труд проповедь обновления православия была чужда лидерам журнала, художникам. Волынский публиковал в «Северном вестнике» произведения Метерлинка, Гамсуна, даже д’Аннунцио, а также Сологуба, З. Гиппиус, Бальмонта, хотя и не принимал художественных новаций модернистов, а в декадентском мироощущении усматривал симптом «лихорадочного расстройства» духа.
В лекции 1892 г. Мережковский связывал развитие русской литературы с грядущим национально-религиозным подъемом: «Высшая степень культуры есть вместе с тем высшая степень народности», но дума о духовном хлебе неотделима от «великой думы о боге». «Мистическое содержание» Мережковский находил не только у Л. Толстого и Достоевского, но и у Некрасова, Г. Успенского, Короленко. (Произвольная интерпретация явлений культуры ради их «присвоения» сохранится в работах Мережковского и в других выступлениях символистской критики). Путь к осознанию высших мистических ценностей видел в новом искусстве и Минский. В предисловии 1894 г. к переводу «Слепых» Метерлинка Минский противопоставлял эмпирической картине реальности — символическую, ведущую к глубинам философского и религиозного постижения мира.
Брюсов имел основания в своих заметках 1895 г. трактовать воззрения Волынского, Мережковского, Минского в духе Ф. Брюнетьера, видевшего во французском символизме идеологизированное искусство метафизического содержания. Но в лекции Мережковского «О причинах упадка...» ощущалась и другая цель (энергично высказанная тогда и Брюсовым): призвать к обновлению словесного творчества. Представители обеих символистских групп оказались в русле насущных эстетических запросов: с 80-х годов перед русскими писателями и критикой все чаще вставала задача художественного перевооружения.
Не только «декадент» Треплев из чеховской «Чайки» полагал, что искусству «нужны новые формы». Сам Чехов сетовал на исчерпанность ресурсов современной прозы и открывал новые возможности реалистического изображения, вводя в него «подводное течение», подтекст, пользуясь импрессионистской палитрой. Л. Толстой, считавший, что в литературном развитии пора «перевернуть страницу», шел на рубеже веков к новым средствам словесной выразительности. Приверженец синтеза реалистического и романтического начал Короленко считал, что сферой художника должна быть и «возможная реальность». Искания Гаршина, оцененные критикой как романтические, объяснялись, по его словам, разладом с традиционным «реализмом, натурализмом, протоколизмом». Интерес автора «Красного цветка» привлекали приемы экспрессивности, активизирующие восприятие, метаязык аллегории, притчи, параболы. За рамки традиционного реализма выходило творчество позднего Тургенева. Примечательна «Песнь торжествующей любви» (1881). В духе романтизма здесь слиты «тайны» искусства, любви, смерти. Рассказ окутан дымкой загадочного, мистического; в судьбы героев вторгаются оккультные силы, магия Востока, колдовские чары музыки. Мотивы злой страсти, любви-ненависти, экзотически пряная атмосфера тургеневского «жестокого» рассказа подводили к грани искусства «конца века». Новые стилевые устремления обозначились и в поэзии 80-х годов: дисгармонически-гротескная образность Случевского, импрессивная психологическая лирика Фофанова.


























