История всемирной литературы Т.8
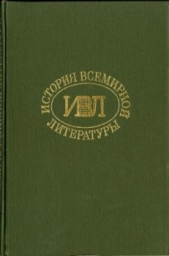
История всемирной литературы Т.8 читать книгу онлайн
Восьмой том посвящен литературе рубежа XIX и XX веков, от 1890-х годов, т. е. начала эпохи империализма, до потрясших в 1917 г. весь мир революционных событий в России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Смятенная ремизовская мысль столь же ощутима и в повести «Пятая язва». Кошмарными в своей бездуховности, низменности, дремучести предстают здесь «свиные рыла» провинциального быта. Русская провинция изображена предельно густо, преувеличенно, в духе гоголевского трагикомического гротеска. Судьей над уездным существованием, воспринятым как средоточие общенациональной жизни, выступает главный герой — следователь Бобров. Жрец неукоснительной законности, он пишет «нечто вроде обвинительного акта» всей русской истории и «всему русскому народу». И хотя позиция фанатического обвинителя терпит крах перед лицом христианского «не осуди», мистической сверхпричины, примиряющая религиозная идея не просветляет изображенной действительности, не скрашивает ее устрашающих зол.
Творчество Ремизова нередко подводило к метафизическим выводам, но при этом неизменно питалось живыми впечатлениями современности.
Влиятельным был художественный опыт писателя. Повести «Крестовые сестры», «Пятая язва» и другие произведения открывали новые возможности прозы. Позднее сказанные слова Ремизова о себе как преимущественно лирике («С каким трудом я протаскивал свое песенное в эпическую форму») — признание своих слабостей в эпическом осмыслении действительности, восходящих и к ирреальным началам его мысли. Вместе с тем им намечены неизведанные пути лирического освоения повествовательной формы.
Самое ценное в художественном арсенале писателя — его «сказ». Сказовая манера Ремизова — при всех ее излишествах — демонстрировала богатство и многоцветье родного языка. Изощренное стилевое мастерство таких произведений, как «Пятая язва», сказалось в прихотливом и в то же время органическом синтезе различных пластов «русского лада» (слово писателя) — простонародной диалектной речи, стиля древнерусских книг — с собственными языковыми «выдумками», неологизмами в лесковской традиции, верными духу и строю своего языка. Искусство ремизовской стилизации заметно отозвалось в творчестве ряда писателей-реалистов 10-х годов (например, Замятина, Пришвина), в орнаментальной прозе первого пооктябрьского десятилетия.
Сказовая речь Ремизова не ограничивалась живописно-изобразительными задачами. В ней своеобразно проявлялось его мировидение. Так, характерная для писателя манера неприхотливо-бытового «говорения» сплошь и рядом умышленно и подчеркнуто контрастирует с содержанием: юмористически простодушно рассказано о мистически страшном, которое видится смешным и обыденным лишь во внешнем своем обличье. Возможность мистического заложена даже и в как будто самой безобидной житейской «чепухе». Зловещий намек на это — в рассказе «Чертыханец»: «Если все присказки, поговорки да прибаутки замечать да еще и думать о них, то и веку твоего не хватит, а главное, чего доброго, еще и сам в нечто подобное превратишься и ничего от тебя не останется: мало ли какие бывают прибаутки!»
Но повествование о страшном в «прибауточно»-бытовом стиле — не только прием, а и знак жизнеощущения. Сказ Ремизова, сцепляющий, связывающий воедино несовместимые начала — житейски простое, обыденное и «чертовское», говорил как раз о двойственной природе образного мышления, о невольной прикованности к обоим этим началам, о невозможности «избавиться» от какого-либо из них в угоду той или другой цельности.
К типологическому ряду промежуточных художественных явлений можно отнести также — в значительной его части — и дореволюционное творчество Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972). Он сам писал в автобиографии о своей срединной позиции между реалистами и модернистами, о том, что почитает своими учителями Чехова и одновременно Владимира Соловьева.

А. М. Ремизов
Портрет работы Кустодиева. 1907 г.
В импрессионистской прозе раннего Зайцева из его первой книги «Рассказы» (1906) нередко исчезает чувственно-конкретное ощущение бытия, образ мира размывает лирическая волна. В годы после первой революции писатель начинает тяготеть к объективно-изобразительной манере письма, отличающейся сжатостью и предметной точностью. В его творчестве появляются социальные мотивы, близкие литературе русского реализма, но звучат значительно более приглушенно и примирительно. О драмах «маленького человека» рассказала повесть «Сны» (1909). В рассказах и небольших повестях, написанных во время первой мировой войны («Земная печаль», «Бездомный», «Мать и Катя» и др.), возникает, перекликаясь с «Вишневым садом», с прозой Бунина, А. Толстого, тема дворянского оскудения, ущербности. Влияние чеховской драматургии испытали пьесы Зайцева («Усадьба Ланиных», «Ариадна», «Любовь»). Он отваживается и на социальное полотно в эпическом роде. Но роман «Дальний край» (1913), поведавший о духовных судьбах интеллигенции на фоне революционных бурь начала века, явственно демонстрировал внутреннюю отчужденность автора от общественного движения. Типичные герои писателя (например, из повести «Путники», 1916), преодолев не удовлетворившее их общественное прошлое, вступают в новую фазу жизни, устремленную лишь к ценностям вечным. Это прежде всего любовь, которая видится отблеском «божественного огня». Но «модернизированная» в духе соловьевской «вечной женственности» религиозная идея (например, в повести «Голубая звезда», опубликованной в 1918 г.) не слишком влияет на изображение любовных переживаний, которые обычно свободны от мистического смысла (например, повесть «Аграфена», 1908).
Образы Зайцева, слишком живые, достоверные для «метафизического» творчества, вместе с тем часто слишком отвлеченны с точки зрения реализма подлинного, ибо в них заведомо ослаблены связи с исторической жизнью. И это соответствовало намерениям писателя в 10-е годы: сблизиться с реализмом, не покидая противоположных эстетических верований.
Опыт русской литературы позволяет углубить наши представления о сложных взаимоотношениях между реалистическим и нереалистическими течениями в искусстве начала XX столетия. Он поучителен и в этом смысле.
СИМВОЛИЗМ
За четверть века своего развития (1892—1917) нереалистические литературные течения выдвинули ряд крупных талантов, чье творчество выразило существенные черты художественного сознания времени, внесло неповторимый вклад в русскую и мировую поэзию и прозу. Как и всей духовной жизни России эпохи трех революций, этим течениям была присуща напряженная, конфликтная динамика. Ее определяло противоречие между эстетическим индивидуализмом и общественными исканиями. При этом перевешивала издавна заветная для русского писателя мысль о социальной гармонии и свободном человеке, какие бы утопические формы эта мысль порой ни принимала.
Среди русских нереалистических течений — символизм, акмеизм, футуризм — первым по времени и наиболее значительным по художественным результатам был символизм. Он возник на переломе от безвременья 80-х годов к социально-политическому подъему 90-х. В 1892 г. Д. Мережковский в лекции «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе» призвал обогатить ее содержание мистической идеей и обновить поэтику с помощью символических форм и импрессионизма. Тогда же вышла книга стихов Мережковского «Символы»; ей он предпослал слова Гёте о преходящем как символе вечного. В 1894—1895 гг. появились три выпуска нашумевших брюсовских сборников «Русские символисты», демонстрировавших теорию новой лирики и ее образцы.
Так в формировавшемся тогда русском символизме почти одновременно обозначились две тенденции: брюсовская, эстетико-психологическая, и заявленная Мережковским эстетико-религиозная. Приверженцы обеих тенденций стремились обновить искусство слова, первые — в целях лучшего самовыражения творящего «я», вторые — чтобы убедительней высказать новую мистическую правду о мире. Говоря словами пушкинской формулы, первые считали себя рожденными «для звуков сладких», вторые — для «молитв». Символизм-самоцель и символизм-средство сосуществовали и соперничали до начала 10-х годов, когда обозначился кризис течения.


























