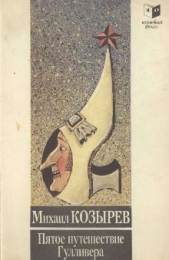Собеседники на пиру. Литературоведческие работы

Собеседники на пиру. Литературоведческие работы читать книгу онлайн
В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году. Сборник издавался в виде отдельной книги и использовался как учебник поэтики в некоторых американских университетах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проникновенно воссоздавая древнюю стихию ритуала и мифа, повторяя архаические ходы фигуративных мифических логик, Цветаева всё же не исследует миф научным или паранаучным образом, как Вячеслав Иванов. В ее трагедиях стихия мифа проявляет себя не только на уровне семантики; в куда большей степени, чем у Иванова, она воплощена на более низких уровнях текста. Она заключена в резких, доходящих до гротеска столкновениях стилистических пластов, совмещении несовместимого, связи несвязуемого — высокого и низкого, хвалы и хулы; в поэтике исступления, выхода за пределы (особенно на уровне синтаксиса и метра); в звуковой и ритмической ткани стиха, сбивающейся на скороговорку и глоссолалию. Рядом с Цветаевой Иванов предстает как книжный, иллюстративный поэт, во многом использующий мифические образы формально, в традициях Ренессанса и маньеризма (хотя на фоне русского символизма ивановское понимание мифа поражает оригинальностью и глубиной) [327].
Это различие двух поэтов — различие двух равновозможных подходов к мифу в культуре XX века. Миф можно воспринимать извне — и воспринимать изнутри; интерпретировать — и жить в его стихии; описать — и прочесть, повторить всем текстом своего творчества и жизни. Быть может, это имела в виду Цветаева в стихах, посвященных Вячеславу Иванову, одному из своих учителей.
Вячеслав Иванов и Осип Мандельштам — переводчики Петрарки
(На примере сонета CCCXI)
История нового русского искусства начинается с эпохи символизма. В эту пору обновилось и искусство русского перевода. Едва ли не впервые со времен Жуковского и Катенина появилась некая осознанная переводческая эстетика. В отличие от банальных массовых переводов XIX века символистские переводы (а впоследствии и переводы акмеистов) обладали установкой на стиль, нередко и на точность. Однако символистская теория перевода по своей сути была парадоксальной. Символисты воспринимали творчество как эзотерический акт — всегда однократный и неповторимый; как вид познания запредельных сущностей — познания несовершенного и частичного; как установление отношений между видимым и незримым, разорванным и единым — установление, всегда балансирующее на грани чуда и неудачи. Реконструировать подобный акт, по мысли символистов, принципиально невозможно. Если само произведение искусства несовершенно и частично, то перевод несовершенен и частичен «в квадрате». Можно лишь надеяться, что читатель перевода получит некий импульс, намек, направление поиска.
Это философское обоснование принципиальной невозможности перевода подкреплялось и филологическим. Ученые-филологи того времени — прежде всего, разумеется, Потебня [328] — подчеркивали внутреннее своеобразие каждого языка, приходя к мысли о взаимной непроницаемости языков (ср. учение Гумбольдта и более позднюю теорию Уорфа).
Следовательно, перевод как таковой для символиста немыслим. Но мыслимо нечто вроде полноценной вариации на сходную тему на материале другого языка. Там, где речь идет об эзотерическом и запредельном, всегда остается возможность чуда. Именно поэтому Волошин, рецензируя брюсовские переводы Верхарна, обмолвился: «…от переводчика стихов я требую прежде всего органической способности к чуду» [329].
В переводческой практике начала XX века сталкивались две линии, которые, впрочем, прослеживаются и в наши дни: линия Анненского (впоследствии Пастернака) и линия Брюсова и Гумилева (впоследствии Лозинского) [330]. Переводы Анненского понятны лишь в контексте его собственного творчества, как его дополнение. Они крайне субъективны и предполагают резкие отступления от оригинального текста. Брюсов и Гумилев стремились к большей объективности, даже научности. Но они также включали переводимое в контекст собственного творчества (просто это творчество было другим, его внутреннее строение было более «объективным»). Именно на фоне этих двух течений следует рассматривать переводческие работы двух крупных поэтов эпохи — Вячеслава Иванова и Осипа Мандельштама. Оба они — хотя, вероятно, в неодинаковой степени — обладали «органической способностью к чуду».
Проблема «Иванов и Мандельштам» исследована явно недостаточно. Однако не подлежит сомнению, что символиста Иванова и ученика символистов Мандельштама связывало некоторое родство [331] С. 131–155.}. Связь Иванова и Мандельштама, при всех различиях дарования и судьбы, заключена прежде всего в их философии культуры. Оба они были гуманистами в наиболее серьезном смысле этого слова (и оба по-своему противоположны певцу «крушения гуманизма» Блоку). Оба ощущали культуру как память, распознавали и переживали в современности архетипические модели; оба чувствовали народные корни мифа и культуры, собственную связь с народной судьбой; оба — last but not least {8} — утверждали родство культуры и церкви. Естественно, как Иванов, так и Мандельштам многократно обращались к опыту раннего Ренессанса; они сами были поэтами русского Ренессанса, насильственно прерванного в самом его начале.
Оба поэта переводили Петрарку. Эти работы разделены почти двумя десятилетиями. Многочисленные ивановские переводы опубликованы в отдельной книге, вышедшей в 1915 году [332]. Мандельштам в конце 1933 — начале 1934 года перевел четыре сонета, которые впервые были опубликованы лишь в 1962–1967 годах [333].
Во взгляде Иванова и Мандельштама на Петрарку несомненно присутствовало личное начало. Их привлекала не только поэтическая высота Петрарки, не только его свободно-интимное отношение к античному наследию, столь сходное с отношением к античности обоих русских поэтов. Сама любовь к «мадонне Лауре» проецировалась на их биографии. Ивановские переводы явно связаны с его стихами, посвященными Лидии Зиновьевой-Аннибал. Мандельштамовские переводы, как полагает Надежда Мандельштам, определенным образом соотносятся с памятью об Ольге Ваксель [334]. Всё же переводы Иванова имеют менее личный характер. Это во многом академический труд, входящий в череду просветительских предприятий символистов. Напротив, Мандельштам, в общем не любивший переводческую работу [335], резко отделял четыре сонета Петрарки от других своих трудов в этой области и включал их в собственный поэтический канон [336].
О мандельштамовских переводах из Петрарки уже существует литература. Прежде всего это превосходная, отмеченная Надеждой Мандельштам, статья Ирины Семенко [337]. Упомянем также статью Донаты Муредду [338], в которой, увы, есть заимствования из Семенко, данные без надлежащих ссылок, а кроме того, и ряд неточностей [339]. Ивановские переводы менее изучены. Насколько нам известно, о них написана лишь обзорная статья Лоури Нельсона [340].
Сравнение переводов одного сонета Петрарки (CCCXI), возможно, дополнит размышления Семенко и Нельсона. На примере этого сонета нетрудно продемонстрировать как мастерство обоих русских переводчиков, так и существенное различие их поэтических принципов.
В своих теоретических высказываниях Вячеслав Иванов был сторонником того, что мы называем «линией Анненского», — т. е. вольного, субъективного перевода.