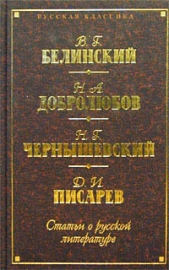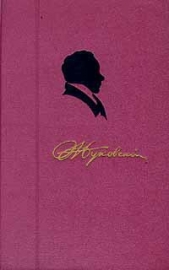Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард
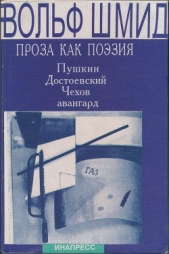
Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард читать книгу онлайн
Вольф Шмид — профессор славистики (в частности русской и чешской литературы) Гамбургского университета. Автор книг: «Текстовое строение в повестях Ф.М. Достоевского» (no-нем., Мюнхен 1973, 2-е изд. Амстердам 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (no-нем., Лиссе 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (no-нем., Франкфурт 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Повести Белкина» (по-нем., Мюнхен 1991; по-русски, СПб. 1996).
Главы публикуемой книги объединены нетрадиционным подходом к предмету исследования — искусству повествования в русской прозе XIX—XX вв. Особое внимание автор уделяет тем гибридным типам прозы, где на повествовательную канву текста налагается сеть поэтических приемов. Автор предлагает оригинальные интерпретации некоторых классических произведений русской литературы и рассматривает целый ряд теоретических проблем, ставших предметом оживленных дискуссий в европейской науке, но пока еще во многом новых для российского литературоведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В истории восприятия «Пиковой дамы» наблюдается тенденция толковать прозаические эпиграфы как модальные указатели прозаического, т. е. вполне нефантастического, смысла новеллы. Эта традиция восходит к В. Б. Шкловскому, по которому «подчеркнуто бытовые» эпиграфы «как бы снижают рассказ и делают его более бытовым». [237] Еще недавно один из пушкинистов утверждал, будто почти все эпиграфы делают содержание данного эпизода тривиальным и что, например, банальность выдуманной цитаты из Сведенборга указывает на банальность сверхъестественного в современной Пушкину литературе, более того — что «поддельность» этой цитаты обращает внимание на «поддельность» фантастического рассказа вообще. [238] (Если бы дело действительно обстояло так просто, непонятно, почему столько толкователей ломают голову над «Пиковой дамой» и ее эпиграфами.) Иначе решает «несоответствие» между эпиграфами и содержанием глав, ими предваряемых, М. Н. Виролайнен: «эпиграфы „Пиковой дамы“ — это несостоятельные схемы, опрокидывающиеся самим содержанием повести». [239] Но можно ли только перенаправлять детерминацию?
Функция эпиграфов, заключающаяся в предвосхищении чего‑то существенного для следующего за ними рассказа, в «Пиковой даме» сохранена. Но не следует видеть в тривиальном содержании эпиграфов указание на нефантастический характер рассказываемого. Прозаический эпиграф не просто предваряет в поэтике Пушкина прозаический мир. Пушкин нередко пользовался определенными приемами с целью уравновешения одной стихии стихией ей противоположной. Вводя, например, прозаические элементы в поэзию или поэтические в прозу, он не ослаблял жанровой основы, а делал ее таким образом более ощутимой. В качестве предвосхищения действует в эпиграфах «Пиковой дамы» не столько их содержательная, сколько жанровая характеристика. За исключением поддельной цитаты из Сведенборга, все эпиграфы новеллы принадлежат к светской коммуникации на французском языке, к той речевой сфере, которая правит рассказываемой историей. Отрывки из переписок и светских разговоров предвосхищают прежде всего сюжетную и метатекстуальную роль тех дискурсов, к которым они сами относятся, т. е. дискурсов большого света.
Сюжетная роль дискурсов
Рассказываемые события приводятся в действие Томским, который рассказывает анекдот о тайне своей бабушки графини. Обратим внимание на прагматику этого рассказа. Анекдот Томского в беседе утомленных ночной игрой офицеров — превосходная степень удивительного. Услышав жалобу осторожно понтирующего и все‑таки вечно проигрывающего Сурина и слова одного из гостей, указывающего на неиграющего игрока Германна, Томский старается перещеголять предыдущие парадоксы еще более удивительным парадоксом, т. е. историей о своей бабушке, которая не понтирует, чего он никак не может понять. Возбудив интерес усталых слушателей, Томский рассказывает свой анекдот так, что молодые игроки «удваивают» внимание (229), как подчеркивает рассказчик, употребляя выражение фараона. И дойдя в своем рассказе до тайны, открытой Сен–Жерменом, он усиливает напряжение, закуривая трубку.
Анекдот — это жанр, в котором важна не столько степень соответствия истине, сколько занимательность. Здесь действителен закон: «se non è vero, è bene trovato» («даже если и не правда, то хорошо выдумано»). В анекдоте желательна крайняя четкость, и это обусловливает тенденцию к фиктивности. Насколько маловажна в анекдоте установка на содержание и какую роль играет самодовлеющая развлекательность, явствует из окончания рассказа Томского. Посмотрев на часы, Томский прерывает рассказ о выигрыше Чаплицкого, и молодые люди допивают свои рюмки и разъезжаются. Желание получить дополнительные сведения о таинственных обстоятельствах рассказьюаемого нарушило бы законы жанра, к которому все слушатели, за исключением Германна, относятся не слишком серьезно.
Жанр анекдота встречается в новелле еще раз, и на этот раз подчеркивается другой из его признаков. Рассеянный Томский упоминает в беседе с бабушкой, что одна из ее ровесниц, о которой графиня говорит как о живой, умерла уже семь лет тому назад. С большим равнодушием принимая весть, которую до тех пор от нее таили, графиня начинает рассказывать анекдот о том, как царица приняла ее вместе с этой же подругой, когда они были пожалованы в фрейлины. В тексте сам этот анекдот не дается. Упоминается только, что графиня рассказывает его внуку «в сотый раз» (232). Анекдот — это жанр, предполагающий повторения. Возможность обновлять одно и то же событие в любой момент лишает его установки на действительность, ослабляет его референтность, отгораживает его содержание от хода реальной жизни.
На анекдот Томского о тайне графини следует реакция слушателей. Один из гостей говорит «Случай!». Германн замечает: «Сказка!». Третий подхватывает: «Может статься, порошковые карты?» (229). Все три реакции имеют метатекстуальный характер. Случай и порошковые карты, часто употребляемые мотивировки в богатой литературе об игре в карты того времени, отрицают чудесное и исключают какую‑либо тайну. Кто говорит «случай», объясняет счастье игрока капризом судьбы, произволом фортуны. Порошковые карты — это средство того, кто хочет «corriger la fortune». Но инженер Германн реагирует иначе: он не дает объяснения чуда, а называет жанр. Его ответ означает: анекдот Томского — это сказка и ничего больше. Этим же он категорически исключает релевантность анекдота для себя самого. Но между тем как на обоих «реалистов» анекдот очевидно не оказывает никакого действия, человек с техническим образованием очень взволнован услышанным.
Как это ни странно, тому, кого Томский называет «расчетливым» (227) и кто сам ссылается на «расчет» как одну из своих верных карт (235), идея приобрести богатство при помощи расчета, т. е. математического вычисления верных карт, даже и в голову не приходит. Литература того времени изобиловала игроками, стремящимися к счастью путем вычисления выигрышных чисел или карт. [240] В библиотеке Пушкина имелись книги по теории вероятности [241], применяемой игроками к азартной игре. Такая идея, вокруг которой кружилась фантазия многих игроков, Германну, повторяем, в голову не приходит.
Итак, «расчетливый» инженер доверяет не расчету, а чуду. Отмахиваясь от анекдота Томского как от сказки, он всё же полагается на логику сказки. Правда, он некоторое время сомневается, можно ли верить анекдоту, противопоставляя чуду свои «три верные карты» — «расчет, умеренность и трудолюбие» (235). Но как он осуществляет эти добродетели? «Расчетливым» Германн оказывается только в переносном, характерологическом значении этого слова. Над его «излишней бережливостью» товарищи имеют причину посмеяться «редко» (235). С «умеренностью» противоборствует его «необузданное воображение». И о каком «трудолюбии» может идти речь, если он до пяти утра сидит с игроками и смотрит на их игру?
Формула, которой он обосновывает свое воздержание от игры — якобы его состояние не позволяет ему «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» (235), — также опровергается действительным его поведением. Германн живет «одним жалованьем», не касаясь процентов отцовского наследства, не говоря уже о капитале. Но, когда он в полночь ждет графиню, чтобы выведать ее тайну, его сердце бьется «ровно, как у человека, решившегося на что‑нибудь опасное, но необходимое» (240). Следовательно, необходимым является для него не отцовский капитал, который он в первой игре ставит на одну карту, а тайна графини.
Представление о существовании трех верных карт формируется в «Пиковой даме» постепенно. Томский прямо не говорит о тайне карт. Связь тайны с тремя картами подсказывается Томским, но устанавливается его слушателями. Томский только замечает, что Сен–Жермен открыл молодой графине «тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал…» (229).