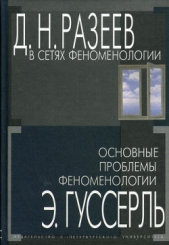Пригов и концептуализм

Пригов и концептуализм читать книгу онлайн
Сборник включает в себя материалы III Приговских чтений, состоявшихся в 2012 году в Венеции и Москве по инициативе Фонда Д. А. Пригова и Лаборатории Д. А. Пригова РГГУ В этом смысле сборник логично продолжает издание «Неканонический классик», вышедшее в «Новом литературном обозрении» в 2010 году. В центре внимания авторов находится творчество Дмитрия Александровича Пригова как масштабный антропологический проект, рассматриваемый на пересечении разных культурных контекстов — философских исканий XX века, мирового концептуализма, феноменологии визуальности и телесности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В чем это проявляется?
1) Если стихотворение Пушкина — очевидное, хотя и шутливое в концовке, любовное послание, то стихотворение ДАПа обращено к «девице» (на самом деле — к маленькой девочке), рисуемой не как объект любовного ухаживания, а как «высокий идеал», о котором тоже вспоминается при взгляде на небо и говорится тоже с шутливой улыбкой.
2) Если рисунок, которым Пушкин сопровождает свое стихотворение, — традиционная для этого жанра, по крайней мере у Пушкина, «иллюстрация» объекта любовного увлечения (профиль, ножка), то рисунок ДАПа изображает не объект, а автора послания, т. е. представляет своего рода автопортрет, который оказывается переводом словесного автопортрета, запрятанного в тексте стихотворения, в портрет изобразительный: словесное и визуальное изображения поддерживают друг друга, особенно в том, что касается игрового подчеркивания самоумаления автора перед огромностью открывшегося его взору мира. И если словами это выражено как весело разыгрываемое удивление перед дальностью поездки («едя в этакую даль» — хотя всего лишь в Будапешт! — но не забудем, что речь идет о поездке «почти на Запад» во времена, когда это удавалось очень немногим), то на рисунке это представлено как замена ожидаемой по привычке подписи автора — его изображением, «динамизируемым» связанностью с милыми зверушками.
В последнем я вижу специфически приговское перепроигрывание авангардных игр, когда Хлебников, а потом и Хармс, и Введенский, и многие другие (вспомним и Ремизова, и Шагала) увлеченно занимались антропологизацией зооперсонажей (вспомним, например, «Зверинец» Хлебникова), в продолжение чего ДАП, выводя автора текста за пределы антропоморфности, стал сближать его с разного рода «малыми мира сего». Он заявил об этом программно в «Предуведомлении» к «Восемьдесят пятой азбуке (птиц, зайцев, зайчат, клопиков, медведей и меня» и многократно обыграл в шутливых диалогах поэта — но чуть ли не в духе Франциска Ассизского[162] — с «крохотной пташкой» (там же, с. 5), с Котом (там же, с. 168–174), «заенькой» (так! — Л.С.)[163], «конем опавшим» (там же, т. 2, с. 73), «небесной пичужкой» (там же, с. 102) и в обращениях к разного рода живности — вспомним, к примеру, диалоги поэта с мухой и тараканом:
«Мой брат, таракан, и сестра моя, муха
Родные, что шепчете мне вы на ухо»
[164]
.
Особой интерпретации требует, по-моему, также факт «утроения» визуального образа автора в «подписи», указывающего на движение, что я осмеливаюсь — помимо всего прочего — сопоставлять с умножением, удвоением-раздвоением образа автора в стихотворных текстах Вагинова, на которое обратил внимание Д. Сегал[165]. (Вагинова ДАП хорошо знал и ценил, во всяком случае любил говорить о Вагинове, Введенском, почти никогда — о Хармсе. Забегая вперед, к финалу сообщения, хотелось бы также указать на другую аналогию с Вагиновым: подобно тому как Вагинов основные коллизии своей поэзии обобщил позднее в романе «Труды и дни Свистонова», так и многие исходные мотивы ранней поэзии ДАПа обобщились позднее в его романах.)
Что же касается рассмотренной нами странички из блокнота, то она, будучи мысленно помещенной в контекст более или менее подобных ей, ведет к первым выводам.
Во-первых, напрашивается вывод о тесной связанности и взаимопереводимости словесных и визуально-изобразительных образов в творчестве ДАПа, в данном случае — образа автора, причем очевидно, что рисунок (в отличие от словесного текста с его требованием хотя бы отчасти придерживаться языковых норм) обеспечивает гораздо больший простор для отклонений от кодифицированных требований узуса.
Во-вторых, уже этот простой текст говорит об устойчивости в творчестве ДАПа философски (эпистемологически — если пользоваться его терминологией) акцентируемого вопроса о претензии человека на первое место в универсуме, и — кажется — именно потому мир рисуется у ДАПа как раздвинутый «во все концы света», а авторское Я — как некое возражение против слишком уж гордых притязаний человека на исключительность в ряду населяющих землю существ, да и вообще — творений космоса.
В-третьих, это — роль взгляда-глаза (здесь вверх, затем будет и вниз, а под конец — в «Ренате и Драконе» — роль взгляда будет представлена как проверка реальной значимости господства антропного принципа).
В-четвертых, напластования уровней памяти и воспоминания как актуализация переживания и рассказа о нем, благодаря чему нарратив в стихотворении проявляется как элемент травелога.
II
Продолжая эту тему расширения горизонтов образа автора в направлении выхода за установленные традицией пределы антропологии, прежде всего с помощью перехода от вербального оформления текста к визуальному (как менее кодифицируемому), я хотела бы напомнить о концовке другого стихотворения, которое начинается характерной для ДАПа бытовой сценой:
Килограмм салата рыбного
В кулинарьи приобрел…
Сам немножечко поел
Сына единоутробного
Этим делом покормил… —
а завершается серьезнейшим философским выводом:
И уселись у окошка
Возле самого стекла
Словно две мужские кошки,
Чтобы жизнь внизу текла
[166]
.
Я не знаю, существует ли оформленное средствами визуальных искусств приговское изображение этих замечательных «двух мужских кошек», но с точки зрения моей темы важно обратить внимание на то, что автору пришлось — именно для того, чтобы точно передать мысль о специфичности ситуации, — нарушить языковые нормы и заняться словотворчеством, сотворив тем самым «кошачьих андрогинов» («мужские кошки»), наделенных к тому же сверхъестественной творческой властью: это их взгляд на мир устремлен вниз, «чтобы жизнь внизу текла», другими словами — чтобы антропный принцип преобразовался в универсально животворящий принцип.
III
Отсюда нас ведет вполне прямой путь к анализу приговских Монстров, из которых я выбрала «Автопортрет» (1997), где автор представлен (как и многие другие носители творческой энергии этой серии) в деантропизированном виде, точнее — в виде усложненных и монстрообразующих комбинаций множества элементов. Хотелось бы напомнить, что в латинском языке monstrum означало ‘предзнаменование’ (monstra ac portenta — Цицерон), ‘чудо’, ‘диво’ (Катулл, Вергилий и др.) и только в сочетании с атрибутом это слово приобретало современные значения: monstrum horrendum — ‘чудовище’ (Вергилий), monstrum mulieris — ‘урод’ (Плавт)[167].
В приговской монстрогалерее симптоматично уже само изображение конгломерата элементов: характерно разъятие образов на составляющие их единицы, собирание из них новых образов по принципу «произвольного разрастания», описанному у Эмпедокла в качестве «ошибки природы», а у Дж. Бруно — как вариационность проявлений универсального трансформизма, благодаря чему в зависимости от условий и направления комбинаторики может возникнуть все что угодно, поскольку строительные потенциалы хаоса безграничны[168]. Согласно комментарию Карсавина к идее Бруно о парадигмах самоорганизующихся систем и перегруппировке их составных частей, монстр представляет собой «акцидентальное стечение элементов (potentia compositionis et etherogeneitatis). Эта потенция актуализируется в бесконечном ряде конкретных индивидуальных сложений»[169]. Что же касается суждений нашего времени — биогенетика уже экспериментально различает варианты и виды разрастания «эмбриональных стволовых клеток».