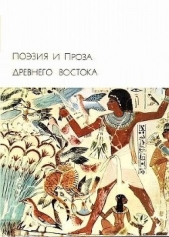История всемирной литературы Т.1
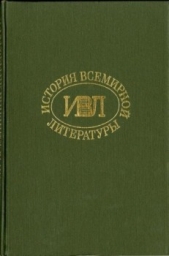
История всемирной литературы Т.1 читать книгу онлайн
Томом «Литература Древнего мира» открывается девятитомное издание «Истории всемирной литературы, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР в сотрудничестве с рядом иных научных учреждений и организаций. Первый том посвящен развитию литератур эпохи Древности и охватывает период вплоть до первых веков н. э.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Другой замечательный памятник протеста против ортодоксальной «премудрости» — книга, известная европейскому и русскому читателю под греческим заглавием «Екклезиаст» (это слово было применено александрийскими переводчиками Библии для передачи заглавия «Кохэлэт» — «Проповедующий в собрании»). Так мог бы не без основания назвать себя неведомый книжник, живший в Иерусалиме, скорее всего, в IV в. до н. э. Образ профессионального мудреца дает и позднейшая приписка к книге: «Кроме того, что Кохэлэт был мудр, он еще и учил народ знанию; он взвешивал, испытывал и сложил множество речений (машалов). Старался Кохэлэт приискивать слова приятные, и слова истины написаны им верно» (Еккл., 12, 9—10). Однако зачин книги называет автора так — «сын Давидов, царь в Иерусалиме». Для читателя это могло значить одно — царь Соломон. Обычай приписывать сборники сентенций мудрым царям былых времен искони существовал в древнеегипетской литературе и оттуда перешел в древнееврейскую (о значении имени Соломона как собирательного псевдонима для всего сословия хахамов сказано выше, в связи с «Книгой притчей Соломоновых»). Но здесь перед нами совсем не то, что в «Книге притчей Соломоновых» или в «Песни песней». Автор не просто надписывает над книгой своей имя Соломона, но по-настоящему «входит в образ» великолепнейшего из царей Израиля, вводя неоднозначное сопряжение двух планов: исповедально-личного и легендарно-исторического. Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Эта сознательность приема есть черта столь же необычная на общем фоне древневосточной литературы, сколь и подходящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III в. до н. э. «Книгу Проповедующего в собрании».
Для «Кохэлэта» боль и радость — это самое пустое и самое легкое, что только может быть, предел пустоты и легкости; «хавэл», «дуновение» (как мы бы сказали — «фук») — подул, и нет. Метафорически слово «хавэл» можно перевести «тщета» или «суета». Согласно формуле, поставленной в самом начале книги и возвращающейся на правах рефрена не менее двадцати раз, все есть «хавэл», все дуновение и суета. Казалось бы, книга, содержащая такие рассуждения, — инородное тело в составе древнееврейской литературы; можно понять исследователей, которые ищут в «Книге Проповедующего в собрании» феномен эллинистической культуры, кинико-стоическую диатрибу на языке Библии. Но присмотримся к первым строкам книги повнимательнее.
Суета сует, сказал Проповедник,
суета сует и все — суета!
Что пользы человеку от труда его,
которым он трудится под солнцем?
Поколение уходит, поколение приходит,
а земля пребывает вовеки.
Восходит солнце, заходит солнце,
возвращается вспять и вновь восходит.
Идет на юг, обращается на север,
кружит, кружит на пути своем ветер —
и на круги свои возвращается ветер.
Все реки текут в море, но не полнится море;
и от истока реки текут снова...
Что было, то будет,
что вершилось, будет вершиться,
и ничего нет нового под солнцем...(1, 2—7, 9)
Автор, собственно, жалуется не на что иное, как на ту самую стабильность возвращающегося к себе космоса, которая была для греческих поэтов и греческих философов источником успокоения, утешения, подчас даже восторга и экстаза. Природные циклы не радуют «Кохэлэта» своей регулярностью, но утомляют своей косностью. «Вечное возвращение», которое казалось Пифагору возвышенной тайной бытия, здесь оценено как пустая бессмыслица. Поэтому скепсис «Книги Проповедующего в собрании» есть именно иудейский, а отнюдь не эллинский скепсис; автор книги мучительно сомневается, а значит, остро нуждается не в мировой гармонии, но в мировом смысле. Его тоска — как бы подтверждение от противного той идеи поступательного целесообразного движения, которая так важна и характерна для древнееврейской литературы в целом. Постольку он остается верным ее духу.
И еще одна идея библейской ортодоксии сохраняет всю свою серьезность для этого оппонента ортодоксии: идея неизъяснимости, непостижимости, запредельности бога. Великий скептик не сомневается в боге, но он сомневается в религии как одной из разновидностей человеческой деятельности и человеческой суеты. Бог — тайна; тем больше оснований не вести себя с ним нескромно. Бог есть, но едва ли с ним можно разговаривать и что-нибудь знать о нем; его действие в мире, понятое в «Екклезиасте» почти как аналог древнекитайского «дао», есть полная противоположность человеческому действию, предел суетным усилиям что-то исправить, познать или высказать в слове.
Смотри на то, что делает бог:
кто выпрямит, что он покривил?..
Как ты не ведаешь путей ветра
и как строятся кости у матери в чреве,
так ты не ведаешь дело бога,
который делает все...
(7, 13; 11, 5) Довольно понятно, что составители библейского канона немало спорили, как следует поступить с «Книгой Проповедующего в собрании» — считать ее книгой священной или нет? Приходится порадоваться, что они все же включили ее в канон и тем спасли для нас одно из самых замечательных произведений мировой литературы.
Гуманным духом всечеловеческого единства и необычным соединением большой серьезности с гротескным юмором отмечена маленькая новелла-притча о пророке Ионе. По-видимому, она принадлежит времени после «вавилонского пленения», но, во всяком случае, была широко известна никак не позднее начала II в. до н. э. (ее уже читали бен-Сира и автор «Книги Товита»). Ее герой — лицо историческое: упомянутый во «II Книге Царств» (19, 13) Йона бен-Амитай, пророчествовавший в VIII в. до н. э. Насколько реальные воспоминания об этом пророке оказали воздействие на сюжет книги, выяснить невозможно.
Книга начинается очень традиционно — и одновременно неожиданно. «И было слово Яхве к Ионе, сыну Амитая: „ встань, и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем“». Вспоминается зачин одной из книг Пятикнижия: «И говорил Яхве к Моисею в пустыне Синайской...» (Чис., 1, 1). «И было ко мне слово Яхве...» — так начинает свое пророчество Иеремия, и этими же словами начинаются главы Иезекииля. Но каково же содержание этого слова Яхве? На сей раз пророк должен идти вовсе не к своим единоплеменникам, но в самый чужой, самый страшный и ненавистный город — в Ниневию — ассирийскую столицу. (Вся «Книга пророка Наума» переполнена проклятиями этому «граду кровей».) Ионе вовсе не хочется принимать на себя тяжелую миссию пророка ради иноплеменников, которые к тому же «язычники» и едва ли будут слушать слово Яхве. Ему велено идти в Ниневию, на восток; он решает ехать в финикийскую факторию в Испании, по имени Таршиш, т. е. на крайний запад. Но его намерение «бежать от лица Яхве» неосуществимо. Корабль, везущий Иону, попадает в страшную бурю; финикийским морякам приходит в голову, что кто-то из богов требует в жертву одного из людей на борту. «И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону (1, 7). Тогда сам Иона, исповедав свой грех, просит, чтобы его бросили в море; после этого буря немедленно стихает. Увидев это, финикийцы обращаются к вере в Яхве. Между тем Иона поглощен «великой рыбой», символизирующей водный хаос и мрак смерти (ср. образ Левиафана в «Книге Иова»); в чреве этой рыбы он произносит стихотворную покаянную молитву, после чего рыба извергает его на сушу.
Теперь Ионе деваться некуда, и он исполняет вторичный приказ идти в Ниневию и пророчествовать о гибели города через сорок дней. Происходит неожиданное: грешные ниневитяне уверовали и объявили всенародное покаяние. И вот Яхве, который не только справедлив, но еще и милосерден, что делает его действия совсем непредсказуемыми, простил ассирийцев и отменил кару. Но пророк отнюдь не дорос до великодушия своего бога и чувствует только то, что его пророчество не сбылось и тем самым превращено в ложь. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Яхве, и сказал: „О, Яхве! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в Таршиш, что знал, что ты бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеющий о бедствии. И ныне, Яхве, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, чем жить“» (4, 2). Эти эпитеты Яхве — «благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый» — произносятся в псалмах с радостью и надеждой; Иона выговаривает их с досадой. Что может быть хуже, чем служить такому богу, который прощает? Чтобы вразумить своего пророка, Яхве заставляет червя погубить куст клещевины, к тени которого пристрастился Иона. На жалобы Ионы дан ответ, которым достойно завершается книга: «И сказал Яхве: „Ты жалеешь о клещевине, над которой ты не трудился и которой не выращивал, которая в одну ночь поднялась и в одну ночь пропала. Так как же Мне не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и притом много животных?“» (4, 11). Для Ионы Ниневия — вражеский город; для Яхве она живое средоточие жизни, нечто произросшее и возрастающее, как куст под небом. Упоминание домашних животных в последних словах — кульминация юмора книги и одновременно кульминация ее серьезности: теплое дыхание неповинных животных — это ценность, ради которой Яхве стоит взять свое слово назад и изменить судьбу великого города.