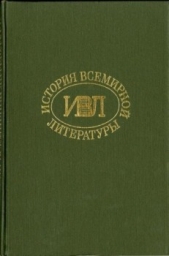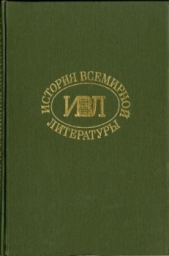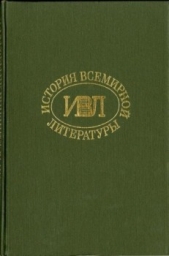История всемирной литературы Т.6
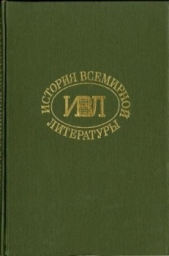
История всемирной литературы Т.6 читать книгу онлайн
Шестой том «Истории всемирной литературы» посвящен литературному процессу первой половины XIX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тенденция к переосмыслению и остранению романтических ценностей, к установлению «разности» между героем и автором, к рельефной и глубокой характерологии сопровождалась в реализме общим изменением предмета изображения. Здесь особенно видно своеобразие реализма русского. Логично было бы ожидать, что смена предмета изображения осуществлялась бы в нем в направлении от высокого к низкому. Отчасти так и было — в некоторых из «петербургских повестей» Гоголя (перекликавшихся в этом смысле с французской «неистовой словесностью»), в некоторых произведениях натуральной школы — но только отчасти. В целом же русскому реализму более свойственно движение от высокого не к низкому, а к среднему, т. е. эстетически нейтральному, лишенному резко негативной окраски, представляющему не нарочитое зло, но скорее будничный порок, не экстраординарное, обыкновенное. Гоголевская характеристика достоинства зрелого Пушкина: «... чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина», — является самосознанием всего русского реализма. В русле этого процесса происходило изменение и общего типажа (вместо завзятых злодеев и удалых людей, вроде картинного «горца», плуты и жулики, судья «в истертом фраке», чиновник-взяточник и т. д.); происходило, далее, и изменение состава действий и поступков (не убийство, а, скажем, ябедничество, вымогательство, ссоры и т. д.); трансформировались и окружающая среда, антураж, пейзаж (не экзотика далекой горной страны, а средняя русская полоса, знакомые с детства равнины и леса). Другая знаменитая гоголевская формула (восходящая, кстати, к Пушкину) — об изображении «пошлости пошлого человека» — это как бы обыкновенность в квадрате, квинтэссенция обыкновенности. Так осуществлялся в русском реализме прогноз Гёте о том, что со временем не будет уже «такой вещи», которая исключалась бы из области изящного «как недостаточно поэтическая».
В развитии русского реализма была своя постепенность, состоящая в том, что первые его результаты, достигнутые примерно за полтора десятка лет в творчестве Пушкина, Гоголя и Лермонтова, в 40-е и 50-е годы были продолжены писателями натуральной школы. Натуральная школа — довольно цельный и, может быть, первый и последний этап в собственном смысле этого слова, поскольку в основе ее жизнедеятельности лежали более или менее общие эстетические принципы. Ниже, в разделе 12, мы покажем подробно, как эти принципы воплощались в систему наиболее типичных и распространенных конфликтов, как они привели к культу неприкрытой и обнаженной «натуры», как в связи с этим возник особый жанр — «физиология» — и особый стиль отношения к действительности — «физиологизм», входивший и в произведения иных жанров — в рассказы (например, в «Записки охотника», 1847—1852, И. С. Тургенева), в романы («Обыкновенная история» Гончарова или «Кто виноват?» Герцена), в драмы («Нахлебник», 1848, Тургенева); увидим мы и то, какое соответствие находили все эти явления в западноевропейском реализме (прежде всего во Франции, ввиду особого распространения здесь физиологического жанра). Пока же отметим лишь главное: натуральная школа развивала (и отчасти выпрямляла, схематизировала) усилия первых русских реалистов, поскольку деромантизации материала, освобождению персонажа от авторского «участия», стремлению к отчетливой характерологии, наконец, изменению предмета изображения — всему этому школа придала определенный акцент. Это был акцент на «среде» и «действительности», выступавшей своеобразным сверхгероем произведения и детерминировавшей и ограничивавшей действия персонажа. Было бы чрезвычайно примитивно интерпретировать эту мысль таким образом, будто бы натуральная школа ничего, кроме фатальной подчиненности человека обстоятельствам, и не знала, будто бы все свелось в ней к положению «среда заела» (эта ироническая формула, обличавшая негативные стороны школы, все же упрощала ее содержание). Нет, дело обстояло сложнее. Действительность выступала как главный партнер персонажей (и автора): с ним можно было тягаться, спорить, временно «обыграть», но уйти от его воздействия никому не удавалось. И эта детерминированность не оставалась легким и безболезненным процессом; она порождала мучительную драму, всю горечь разочарования персонажа и всю боль сострадания к нему автора. Постепенно же интерес к «внутреннему человеку», сопротивляющемуся среде и обстоятельствам, к скрытым стимулам его поведения привел к таким результатам, которые раздвинули и опрокинули рамки натуральной школы.
Наконец, существование рубежа, с которого мы начинаем счет нового периода русской литературы, определяется и тем, что в это время сложилась у нас классическая критика. Первое условие такой критики — последовательность, систематичность откликов на явления текущей литературы. Оно было намечено в начале века в изданиях Карамзина, а затем закреплено первыми у нас профессиональными критиками, такими, как Н. Полевой, Надеждин и, конечно, Белинской. Свойство такой критики — доверительный разговор с читателем, постоянное и неуклонное воспитание его вкуса, да и не только вкуса. Русская критика с начальных этапов своего развития взяла на себя функции этической и социальной интерпретации произведений искусства, что при отсутствии возможностей для открытой публицистики и свободы слова превращало критику в реальную политическую силу. Для либеральной же, демократической и тем более революционной идеологии, которая формировалась в России в первой половине XIX в., это было поприще наиболее доступное и единственное легальное. Слова Герцена: «У народа, лишенного общественной трибуны, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести» — применимы в первую очередь к литературной критике.
Существенно для понимания настоящего периода и то, что в русле литературной критики примерно с середины 20-х годов у нас выработались философские концепции искусства — такие концепции, в которых знание о литературе интегрировалось как часть общего философского наукоучения, а литература русская выступала как участница мирового художественного процесса. Именно в этом контексте впервые возникло у нас и само понятие «история всемирной литературы». «Кроме частных историй отдельных народов, — писал Белинский в 1842 г., — есть еще история человечества, точно также, кроме частных историй отдельных литератур (греческой, латинской, французской и пр.), есть еще история всемирной литературы, предмет которой развитие человечества в сфере искусства и литературы».
К середине XIX в., составляющей хронологический рубеж настоящего тома, разумеется, не завершился классический период русской литературы. Однако упомянутый рубеж обладает качественной определенностью, образуемой совпадением ряда причин — и общественно-политических, и собственно литературных. Поражение России в Крымской войне продемонстрировало социальную отсталость страны и острую необходимость экономических и политических преобразований. Революционное движение вступало в новый этап — разночинный. Что же касается собственно литературных причин, то важнейшая из них — полное развитие и «разложение» натуральной школы. Крупнейшие представители школы — Достоевский, Тургенев, Герцен, Островский, Салтыков-Щедрин и другие, — усвоив ее опыт, устремились далее каждый своими путями, которые во многом определили облик русской литературы второй половины XIX в.
Сведения о новой русской литературе, которые проникали в Западную Европу, носили первоначально эпизодический, случайный характер. Одним из первых информаторов и пропагандистов русской литературы был В. К. Кюхельбекер, прочитавший в 1821 г. лекцию в Париже. «Для нас наступило время, — говорилось в этой лекции, — когда для всех народов существенно взаимное знакомство...» В 20-е годы появляются первые антологии русской поэзии на английском («Образцы русской поэзии, переведенные Дж. Баурингом» — «Specimens cimens of the Russian Poets...», 1821—1823), немецком («Поэтические творения русских» — «Poetische Erzeugnisse der Russen», 1820—1823; сост. и пер. К. Ф. Борг) и французском языках («Русская антология» Э. Дюпре де Сен-Мора — «Anthologie russe, suivie de poésies originales...», 1823). По этим изданиям западный читатель знакомился со стихотворениями Ломоносова, Державина, Жуковского, Вяземского, В. Пушкина, Крылова, Д. Давыдова, Батюшкова, А. Пушкина... Прозаические произведения содержало изданное в Париже в 1833 г. «Собрание русских повестей, выбранных из Булгарина, Карамзина и других» («Les conteurs russes...»). Однако подбор имен, освещение материала обличали еще недостаточную компетентность, на что обратил внимание И. В. Киреевский: «Скажите, что страннее, говорить о русской литературе, не зная Державина, или ставить вместе имена Булгарина, Карамзина и других?» («О стихотворениях г. Языкова», 1834).