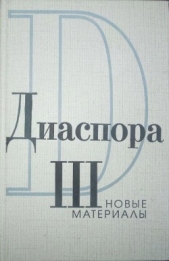Русские символисты: этюды и разыскания

Русские символисты: этюды и разыскания читать книгу онлайн
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В целом же мера художественного вымысла и самый характер интерпретации египетской истории в дилогии Мережковского позволяют рассматривать ее в ряду других новейших европейских повествований о Древнем Египте. В проблематике одного из наиболее известных произведений о Египте, романе Болеслава Пруса «Фараон» (1895), основу сюжета составляет коллизия, внешне сходная с той, какую мы находим у Мережковского, — противоборство между фараоном-преобразователем и хранящей вековые устои кастой жрецов (развитие этого конфликта осуществляется, однако, не в метафизическом, как у Мережковского, а в социально-политическом аспекте, в согласии с позитивистским мировоззрением автора). Тема борьбы за власть оказывается и в центре авантюрных романов Райдера Хаггарда на египетские сюжеты, в которых, как и у Мережковского, сквозь историческую драпировку проступают мифопоэтические архетипы и аналогии с культурным укладом Нового времени; например, в романе «Владычица Зари» история спасения новорожденной царевны, которой предначертано свыше стать повелительницей всего Египта, выстраивается что евангельской модели (бегство Святого семейства в Египет от преследования Ирода), а тайная благая Община Зари, братья которой связаны между собой клятвами и пользуются системой эзотерических знаков, обрисована как своеобразный аналог масонской ложи. Теофиль Готье в «Романе мумии» (1858), с эстетской изощренностью и безукоризненной пластикой живописующий картины древнеегипетской жизни, также прибегает к системе апробированных художественных знаков: образ фараона у французского писателя строится по типу изображения восточных деспотов, каким он определился в литературе европейского романтического ориентализма, взаимоотношения библейских Иакова, Рахили и Лии служат психологической основой для центральной сюжетной коллизии; в финале же романа Готье прямо следует за священным первоисточником, изображая чудеса и знамения Моисея, а также исход евреев из Египта.
В этом ряду «вольности» Мережковского, преображающего еврея Иссахара из смертельного врага Ахенатона в апостола возвещенной им новой веры (подобно гонителю христиан Савлу, превращающемуся в Павла, самого ревностного проповедника христианства), — не исключение, а, скорее, следование сложившимся «беллетристическим» правилам. Новозаветный подтекст в «египетских» романах Мережковского дополняется и другими новейшими смыслами и построениями, проступающими сквозь архаизированную повествовательную оболочку. «Иногда <…> послышится новизна самая последняя: крестьяне времен Минотавра заговорят, словно на заседании петербургского Религиозно-философского общества», — иронически подмечал в рецензии на «Рождение богов» Вл. Кадашев [1620], а Вл. Злобин в статье «Д. С. Мережковский» аналогичным образом угадывал в зарубежных книгах писателя «что-то родное, русское»: «…разлив Нила в романе „Мессия“. Но сквозь Нил как бы просвечивает Волга. <…> Ахенатон IV бросает царство и, переодетый странником, с котомкой за плечами, уходит в пустыню. Невольно вспоминаешь легенду о таинственном старце Федоре Кузьмиче <…>» [1621].
Мережковский не только привносит в Египет свою религиозную философию; пространство древнейшей истории он наделяет специфическими приметами, изобличающими в нем современного русского писателя. Тема «ухода» царя (Ахенатон оставляет свой престол и пытается раствориться в простонародной среде) не имеет себе, конечно, никаких реальных соответствий в жизни египетских властителей, однако непосредственным образом сопрягает действие романа с типично русской религиозно-нравственной проблематикой — с идеей «русского странничества», преломлявшейся на разные лады: и в судьбе поэта-«декадента» Александра Добролюбова, порвавшего со своим окружением и ушедшего «в народ» искать подлинные религиозные ценности, и в предсмертном «уходе» Льва Толстого, и в легенде о старце Федоре Кузьмиче (упомянутой Злобиным), облик которого якобы принял покаявшийся венценосец Александр I — главный герой второй исторической трилогии Мережковского. Безусловно, российский подтекст имеют и ярко обрисованные в «Мессии» сцены народного бунта; пророчества жреца Зена: «Будет великий мятеж по всей земле. <…> Скажут люди: „нет чужого, все общее; и чужое — мое; что хочу, то возьму!“ Скажет бедный богатому: „вор, отдай, что украл!“ Скажет малый великому: „все равны!“ <…> Новыми богами сделаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника!» — направлены поверх голов египетских ниспровергателей святынь к грядущим приспешникам Интернационала. В отзывах о романе указывалось на остро актуальный смысл этих эпизодов: «В „Мессии“ бьется именно наше, западное сознание, только преломленное другой эпохой <…> сцена бунта написана человеком, видевшим и помнящим нашу революцию» [1622]. Наконец, воссозданная в этом романе ситуация глубокого общественного переворота, сопровождавшаяся борьбой с приверженцами старых заветов и ознаменованная строительством новой столицы государства в пустынном, захолустном месте, вызывает прямые аналогии с важнейшим сдвигом в российской истории — с реформами Петра Великого и основанием Петербурга: для автора романа «Петр и Алексей», чья творческая мысль всегда питалась символическими соответствиями, такая ассоциация подразумевалась сама собою.
Египетская дилогия Мережковского отличается меньшим размахом действия, менее подробной разработанностью повествовательных линий, чем его предыдущие романы. Во многом это объясняется исторической первоосновой: объем достоверных данных о жизни Египта в годы царствования Эхнатона несопоставим с тем, что известно об Италии в период деятельности Леонардо да Винчи или о России во время петровских реформ. Творческая работа Мережковского всегда отличалась сугубо «вторичным», «книжным» характером: содержание его романов непосредственно вырастает из досконально проработанных документальных материалов, зачастую прямо, с цитатной точностью вводимых в повествовательную ткань. Берясь за изображение древнего Крита и Египта, Мережковский вынужден был во многом полагаться только на собственную писательскую фантазию. Тем не менее и эти два произведения согласуются с общими структурообразующими принципами, отличающими метод Мережковского — исторического романиста. Вновь объектом изображения становится переломная историческая эпоха, дающая возможность выявить противостояние универсальных метафизических оппозиций; вновь средоточием всей затрагиваемой проблематики оказывается религиозный вопрос: религиозным самоопределением более всего озабочены главные герои обоих романов; вновь волнующие автора глобальные идеи персонализируются в реально существовавшей личности величайшего масштаба, оставившей неизгладимый след в мировой цивилизации.
Верен Мережковский в своей египетской дилогии и той манере художественно-исторического повествования, которая определилась еще в первом его романе о Юлиане Отступнике. Писатель не стремится к тщательной разработке характеров действующих лиц, к раскрытию психологии их поведения, нюансов душевных движений; «индивидуально-выявленное», по слову Цветаевой, его занимает не столь остро и безусловно, как полнота и определенность выявленности. Сплошь и рядом герои Мережковского совершают поступки как бы по озарению — не сами действуют, через них действует высшая сила; внешнее описание не сопровождается передачей внутренних импульсов. И. А. Ильин, резко выступавший против идейных построений Мережковского, дал, однако, весьма точную характеристику специфики его исторических романов, предлагая рассматривать их автора как «художника внешних декораций и нисколько не художника души»: «…его ослепляет, его чарует пространственно-пластический состав мира и образов; больше всего ему говорят скульптура, архитектура и живопись — и притом не в их тонком, глубоком, сокровенно-духовном значении, но в их выявленном, материально-линеально-перспективно-красочном составе. Внешнее внешних искусств — вот его стихия. Мережковский — мастер внешне-театральной декорации, большого размаха крупных мазков, резких линий, рассчитанных не на партер и не на ложу бенуара, а на перспективу подпотолочной галереи; здесь его сила; это ему удается. То, что он рисует, — это как бы большие кинематографические стройки, преувеличенные оперные декорации, гигантские сценические эскизы, или макеты для взволнованных массовых сцен, разыгрывающихся на фоне античных городов или гор средиземного бассейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он подкупает их силу воображения, выписывая им роскошные аксессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египетских пейзажей, — почерпывая материал для них не столько в природе, сколько в обломках и остатках развалин и музеев; <…> И действительно, красочные картины декоративного ансамбля ему нередко и весьма удаются — ну, как у Семирадского, у Рубенса, у Паоло Веронезе, иногда у Тициана или Бронзино» [1623]. Связь исторических реконструкций Мережковского с искусством театральных декораций и композиционными приемами, в согласии с которыми создаются многофигурные полотна в академической живописи, была подмечена еще при появлении его первых романов; А. В. Амфитеатров, уподоблявший массовые сцены в изображении Мережковского оперному хору, подчеркивал: «…вы все время сознаете себя зрителем представления, а не свидетелем действительной жизни. Но, с другой стороны, вам приятно видеть, что г. Мережковский умел выбрать свои декорации с большим вкусом и знанием дела, расставил их уместно, изящно, искусно <…>» [1624].