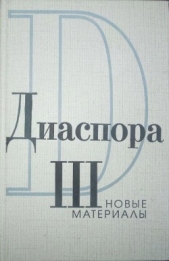Русские символисты: этюды и разыскания

Русские символисты: этюды и разыскания читать книгу онлайн
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К. Д. Бальмонт в своей книге очерков о Египте, оплакивая гибель тысячелетней мудрости и красоты от руки «тупоумного Араба», «народа хищников, несущих разрушение для разрушения» и имеющих «нищенскую долю творческой способности», уподобляет случившееся с древнейшей культурой участи египетского бога — царя загробного мира: «Озирис опять растерзан, но не на четырнадцать частей, а на несчетное число их, и более Изида не ищет растерзанного Озириса» [1610]. Судьба истребленной и поруганной дикарями величайшей цивилизации должна была восприниматься носителями символистского мироощущения, предчувствовавшими глобальные катастрофические сдвиги и сумевшими убедиться в верности своих предчувствий, как живой и разительный прообраз.
Элемент утопической идеализации Египта проступает у Мережковского в «Тайне Трех» вполне отчетливо. В его интерпретации Египет предстает подобием мифического «золотого века», утраченным царством вечной юности, мудрости и совершенства, осязаемым воплощением начал умиротворения, благости, красоты и легкости. Египетская земля — Божья земля: она пронизана «небесной радостью», чувством обретенного Бога, отзывающимся в «неизменной правильности, тихости и вечности природы»; египтяне — это как бы люди из иной субстанции, дарующей другое, неведомое людям нового времени, восприятие бытия: «Души их не совсем воплотились, не окончательно выпали в этот мир из того, во время из вечности». В архитектонике египетских пирамид — «самого вечного из всего, что создано людьми на земле» — Мережковский видит совершенное воплощение метафизических первооснов мироздания: «Бог един в Себе и троичен в мире. Бог и мир — Единица и Троица: 1 + 3 = 4. Не знаменует ли пирамидное зодчество — соединение четырех треугольников в одной точке — эту трансцендентную динамику божественных чисел? <…> кристаллы пирамид возвещают людям единственный путь к Воскресению — Тайну Трех, Пресвятую Троицу» [1611]. Египет, исполненный меры и совершенства, и Вавилон, заключающий в себе, в интерпретации Мережковского, начала трагедии и дисгармонии, греха, наказания и искупления, в совокупности дают образ того полусимволического духовного «Востока», который позднее определил всю структуру европейского мироустройства; в аспекте мифологем, восходящих к Ницше и глубоко освоенных русскими символистами, в том числе Мережковским с особенной силой [1612], Египет соотносится с «аполлоническим», а Вавилон — с «дионисийским» началом. В верованиях Египта и Вавилона писатель разгадывает великие истины и пророчества, совпадающие с самым существом христианства, с его сокровенным смыслом: пирамиды говорят о таинстве Святой Троицы; страдающий бог Озирис предвосхищает мистерию Голгофы; богиня Изида-Гатор в образе Телицы напоминает о себе теличьим ликом, склоненным над вифлеемскими яслями, рядом с ликом Пречистой Матери; борьба с тлением, средоточие усилий всей египетской культуры, осмысляется как опыт воскрешения мертвых, указующий на таинство грядущего воскресения.
Стремление истолковать древнейшие мировые культуры под знаком метафизических универсалий, распознать в пережитой конкретно-исторической реальности сверхисторическое, надвременное содержание, разложить своеобразный пасьянс из сохранившихся разрозненных фактов и свидетельств в соответствии с предустановленным высшим, провиденциальным смыслом — особенности, для творческого мировидения и литературного мастерства Мережковского чрезвычайно характерные. Когда-то Марина Цветаева зафиксировала свои впечатления от романа Виктора Гюго «Девяносто третий год»: «Сплошное напряжение. <…> Это перо стихии выбрали глашатаем. Сплошные вершины. Каждая строка — формула. Все мироздание. Все законы — божеские и человеческие. <…> Великолепие общих мест. Мир точно только что создан. Каждый грех — первый. <…> Hugo видит в мире только правильное, совершенное, до крайности выявленное, но не индивидуально-выявленное… <…> Никто так не видал общего в отдельном, закона — в случайном, единого — во всем» [1613]. Эти слова, метко характеризующие форсированную романтическую стилистику великого французского писателя, можно с полным правом применить и к творческому методу Мережковского. Русский писатель, правда, менее склонен к внешней патетике, к эмоциональной чрезмерности; максимализм и универсализм его идейно-эстетических установок сказываются главным образом в преимущественном внимании к титаническим фигурам, определявшим развитие мировой цивилизации, в размежевании всего многообразия явлений жизни по крайним, противоположным полюсам, в специфическом механизме художественно-философского мышления, приводимом в действие изначально постулированными глобальными метафизическими антитезами и их бесчисленными частными модификациями и символическими отображениями.
Романы Мережковского из жизни древнего Крита и Египта — это также прежде всего опыт обнаружения «общего в отдельном, закона — в случайном, единого — во всем». Культура Средиземноморья первой половины XIV в. до Рождества Христова интересует писателя не столько в своем самоценном содержании и значении, сколько как возможность указать на сакральные предзнаменования той мировой мистерии, которая свершится четырнадцать веков спустя, определить ее надысторический, вселенский смысл.
В романе «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» реконструкция древнего жизненного уклада, осуществленная со всей возможной тщательностью, служит красочным «этнографическим» фоном для драматического идейного конфликта: культ звероподобного божества, олицетворяющего агрессивную, плотскую, бездуховную природу древней религии, сталкивается с идеей страдающего Бога, утверждающего новое представление о святости и несущего откровение о благой природе высшего начала. Подвижница этой зарождающейся идеи, юная жрица Дио, восстающая против верований отцов и прозревающая пришествие Неведомого Бога, обрисовывается Мережковским как протохристианка, являя собой «своеобразный тип языческой монахини» — как отмечала в рецензии на «Рождение богов» Т. И. Манухина (Т. Таманин), увидевшая в жрице-визионерке также черты сходства с героинями античной трагедии — Антигоной, Электрой, Ифигенией [1614]. Аналогичным образом мистерия Голгофы предвозвещается в романе добровольной жертвенной гибелью вавилонского купца Таммузадада (вавилонское происхождение этого персонажа имеет особый символический подтекст: как подчеркивает Мережковский в «Тайне Трех», именно из Вавилона пришли волхвы, хранители древней мудрости, поклониться младенцу Иисусу). Христос, согласно убеждению Мережковского, таится в язычестве, в «живом сердце древних религий»; явное или скрытое, осознанное или бессознательное исповедание христианства составляет, но мысли писателя, универсальное содержание человеческой истории, ее высшее оправдание и ее энергетический код: «История — мистерия, крестное таинство, и все народы участвуют в нем. Путь от Вифлеема к Голгофе есть уже путь „язычества“, человечества до христианского. Много народов, „языков“ — много мифов, а мистерия одна — мистерия Бога умершего и воскресшего. Озирис египетский, Таммуз вавилонский, Адонис ханаано-эгейский, Аттис малоазийский, Митра иранский, Дионис эллинский, — в них во всех — Он. По слову апостола Павла, „это есть тень будущего, а тело — во Христе“ (Колос., II, 17)»; «Содержание всемирной мистерии-мифа о страдающем Боге есть событие, не однажды происшедшее, а всегда происходящее, все вновь и вновь переживаемое в жизни мира и человечества. <…> Всемирная история есть геометрическое пространство, в котором строится тело Христа» [1615]. Мистические интуиции героини «Рождения богов» также приводят ее к безотчетному, но самому подлинному переживанию и осознанию: Дио «как будто не узнавала новое, а только вспоминала давнее: все это уж было когда-то; так было — так есть» («Минотавр», гл. IV).