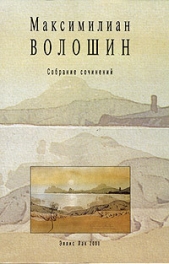Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По существу, строчками И бедный босоногий самолет / Бежит, бежит, прикрыв рукою рот Пригов изображает небольшой фрагмент языковой системы с ее приобретениями (метафорической образностью) и потерями (обессмысливанием слов). Первая строчка Вот самолет как светлая душа и последняя Не то сгоришь, как белый голубь-птица объединяют традиционный символ «птица-душа» и возникшее в XX веке уподобление самолета птице. При этом метафорическая птица конкретизируется, но конкретности оборачиваются серией очередных концептов: это и сгорающая птица-феникс, и голубь мира, и бумажный голубь, который действительно может гореть.
Обратим внимание на структуру фразеологизма птица-феникс: лексической единицей является парное сочетание, объединяющее родовое и видовое название, что Пригов и пародирует конструкцией голубь-птица. Инверсия подчеркивает избыточность родового наименования, так как именно второй элемент словосочетания является уточняющим.
Возможно, в последней строфе смешиваются два эпизода из известных текстов культуры: библейский сюжет о жене Лота, которая была наказана за то, что обернулась на горящий Содом (Быт.: 19: 26), и рассказ о мести Ольги древлянам из «Повести временных лет»: чтобы сжечь древлян, княгиня Ольга собрала дань — с каждой избы по голубю и воробью, — привязала к ногам птиц горящие труты и отпустила лететь обратно.
Одушевление предметов, восходящее к мифологическому сознанию, имеет разную мотивацию в разных художественных системах. В постмодернистском тексте Пригова одушевление мотивировано не сходством предметов с живыми существами по внешнему виду или функции, а возможностями самого языка: слова, теряющие прямой смысл, оказываются способными вступать в новые соединения.
Если словосочетания типа босоногий самолет порождаются фразеологическими ассоциациями общеупотребительного языка, то многие другие, нарочито нелепые словесные конструкции и тексты Пригова обусловлены фразеологией литературного происхождения. Некоторые примеры, демонстрирующие превращение слова из цитаты в концепт, уже приводились. Теперь обратим внимание на поведение заимствованной метафоры:
Здесь очевидна пародийная трансформация строк Ветер, ветер! Ты могуч, / Ты гоняешь стаи туч из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина. Но если в источнике множество было обозначено только словом стаи, то у Пригова количественным показателем становится сочетание стаи туч. В языке слово туча и само по себе может обозначать множество. При этом пушкинская метафора ‘тучи как птицы’ совсем обессмысливается, так как тараканы по небу не летают.
И сам Пушкин изображается Приговым как концепт, то есть продукт мифологизированного массового сознания, сформированного не чтением произведений Пушкина, а идеологией, в которой все ценности заранее утверждены и приписываются культовому объекту вопреки реальности:
Поэтому, когда Пригов и самого себя, точнее, созданный им образ Дмитрия Александровича Пригова представляет гротескным симулякром «поэта-пророка», он провозглашает, что Пригов — это и Пушкин сегодня, и Лермонтов, и кто угодно из пантеона культурных и идеологических символов:
Пригов не просто провозглашает себя Пушкиным сегодня, но и вмешивается в его тексты (как и в тексты других поэтов): например, комментирует, пересказывает хрестоматийные стихи своими словами (как бы следуя постулату соцреализма о приоритете содержания над формой), меняет слова местами, сочиняет буриме на пушкинские рифмы, внедряет в текст слова безумный, безумно, безумец, безумство:
Последний пример представляет собой обновление пародии: в романе «Евгений Онегин» монолог Ленского — пародия на канон романтической «унылой элегии». Современный читатель вряд ли может без литературоведческих комментариев почувствовать пушкинскую иронию, и Пригов именно эту иронию модернизирует, подробно объясняя свои намерения в авторском «Предуведомлении»:
Естественно, что за спиной переписчика, как и за моей, стоит его время, которое прочитывает исторический документ с точки зрения собственной «заинтересованности» или же «невменяемости», т. е. как текст, непрозрачный даже в отрывках, знаемых наизусть. Так же и упомянутый пушкинский Онегин прочитан с точки зрения победившей в русской литературной традиции — лермонтовской (при том, что все клялись и до сих пор клянутся именно именем Пушкина). Замена всех прилагательных на безумный и неземной, помимо того, что дико романтизирует текст, резко сужает его информационное поле, однако же усугубляет мантрическо-заклинательную суггестию, что в наше время безумного расширения средств и сфер информации вычитывается, прочитывается как основная и первичная суть поэзии [696].