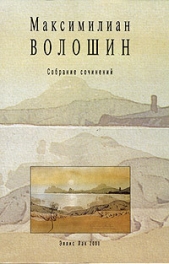Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тема смерти возникает всегда, когда человек хочет избавиться от идолов. Смерть делает преходящим и зыбким мир сил, излишне надменно притязающих на власть над человеком. Но культура не принадлежит к числу этих сил. Она есть то, что, напротив, дает человеку власть над реальностью. Власть совершать даже то, что лежит далеко за пределами его способностей и его целей. Сейчас в Москве много возникает работ, посвященных теме смерти. Так, тема эта постоянно присутствует, скажем, в работах Риммы и Валерия Герловиных. Их «Универсальная гадалка» предсказывает всем одно: «Пока ты жив, а потом умрешь». Они разыгрывают викторину с ответом на вопрос: «Кто из игроков умрет в какой последовательности?» Смерть здесь выступает всеразрушающей силой. И эта сила — вот чудо! — приветствуется, несет освобождение. Раз я все равно умру и не буду вас, уважаемые товарищи, больше видеть никогда, то какая цена всем вашим притязаниям?
Но это победа на мгновение. Государство и власть длятся дольше человеческой жизни и владеют ею. Не в смерти от них спасение, а в Жизни Вечной.
Искусство Дмитрия Пригова может быть понято как наиболее интересная в тогдашнем советском контексте попытка выдвинуться — по крайней мере, символически — с маргинальной, периферийной позиции в культурный центр. В официальном мире Пригов был профессиональным скульптором. В неофициальном — он начал писать стихи и уже в 1970-е завоевал известность как в литературном, так и в художественном андерграунде. С начала своей творческой карьеры Пригов меньшее значение придавал поэтическому тексту (хотя и писал прекрасные стихи), а большее — фигуре поэта. Со времен романтизма в европейской культуре центральной темой поэзии стала субъективность поэта. Несмотря на периодически поднимавшиеся волны критики, в культурном воображении это романтическое отношение осталось неколебимым. Поэт не только имеет право, но и обязан быть субъективным, то есть жить всецело в своем воображении. В этом смысле публичная фигура поэта как инкарнация чистой субъективности — как виртуальное тело поэтического воображения — приобретает большее значение, чем собственно стихи, создаваемые поэтом.
Особенно отчетливо это свойство проявлено в русской культуре, в которой поэт долгое время воспримался как двойник царя. Таким поэтам, как Пушкин, Блок, Маяковский или Пастернак, принадлежит центральная роль в процессе русской культурной самоидентификации. Историческая череда великих поэтов имеет для национального исторического нарратива такое же значение, как и последовательность исторических лидеров: и те, и другие символизируют характерное для России персонифицированное представление о власти — неважно, политической или поэтической. В широко известном цикле стихов о Милицанере Пригов иронически апроприирует этот образ политико-поэтической власти. Милицанер изображается как христоподобная фигура, соединяющая небеса и землю, закон и общество, волю божественную и человеческую, реальное и воображаемое:
Пригов снижает традиционные поэтические притязания, косвенно сравнивая поэта не с царем, но с «Милицанером». Он сам иногда надевал милицейскую фуражку, когда читал стихи на публике. Но иронический подтекст этого стихотворения не означает, будто Пригов критикует амбиции своих предшественников. Скорее, он огорчен тем, что не в состоянии более верить в поэтическое слово и в поэта как вождя и спасителя — и потому оказывается близок к коррумпированному Милиционеру, не верящему в универсальную силу закона и порядка. Во всех своих стихах 1970-х годов Пригов колеблется между двумя типами авторепрезентации: рядовым советским гражданином и почти сакральным носителем магического, профетического слова.
Эти две претензии кажутся противоположными друг другу, но у них есть и нечто общее: и та и другая не вписываются в «нормальный» культурный контекст либеральной интеллигентской Москвы того времени, презиравшей советские массы за лояльность «системе» и в то же время испытывавшей глубокое подозрение по отношению к любым преувеличенным властным претензиям — даже если то были всего лишь поэтические претензии. Именно двусмысленность и лицемерие, свойственные этому культурному кругу, особенно часто становились объектом приговских провокаций: люди этой среды вели вполне комфортабельную жизнь в советской столице, веря при этом в собственное нравственное превосходство, основанное, главным образом, на обмене антисоветскими анекдотами за бутылкой водки на дружеской кухне.
В поздние 1980-е и в 1990-е годы провокационные жесты Пригова приобретают все более отчаянный характер. Постперестроечное открытие российского публичного пространства обернулось захватом этого пространства коммерциализированной массовой культурой. Так вновь обнажилась тщетность романтических попыток воплощения поэтической правды в центре публичного пространства: советская публичность была оккупирована идеологическим текстом, который, по крайней мере, принадлежал той же медиальной сфере, что и поэзия, — что порождало иллюзорную веру в возможность конкуренции между поэзией и идеологией. Но как товар поэтический текст не имеет никаких шансов на современных медиальных рынках.
В 1980–1990-е Пригов все сильнее подчеркивает и все энергичнее развивает перформативный аспект своих поэтических практик. Перформативность присутствовала уже в ранних, 1970-х годов, поэтических чтениях Пригова. Его более поздние поэтические перформансы напоминали одновременно религиозные камлания, дадаистические акции и почти звериный вой. Во время выступлений Пригов нередко выкрикивал свои стихи, возвышая голос до крайнего предела. Пригов кричал не потому, что действительно старался привлечь внимание слушателей. Скорее его крик служил метафорой желания быть услышанным. Не случайно и темы поэзии Пригова изменились в этот период, от власти и поэтической миссии сместившись к одиночеству и смерти.
В то же самое время Пригов все более активно занимается визуальным искусством. Он произвел огромное количество графических листов и инсталляций, сочетавших графику и реди-мейд. В своих бумажных работах Пригов часто использовал газеты. Поверх газетного текста крупными красными или черными буквами он писал отдельные слова — тем самым символически утверждая превосходство индивидуального поэтического слова над анонимными массами информационных/идеологических текстов. Однако это поэтическое слово неизменно выглядит как написанный на стене знак грядущей катастрофы, возбуждая ассоциации с библейскими пророчествами. Аналогичным образом и в своих инсталляциях Пригов помещал на стенах черные и красные слова и знаки, указывавшие на смерть и траур.
В современном массовом обществе индивидуальный голос может функционировать только как медиум мрачных пророчеств, обещающих тотальное апокалиптическое уничтожение человеческих масс. Но даже этот голос почти никогда не достигает слушателей. Вот почему приговское искусство год от году становилось все мрачнее и все отчаяннее — до самой его смерти в 2007-м. Но в то же время его публичный имидж сохранял обаяние и открытость. Контраст между Приговым как любезным и рассудительным коммуникатором (часто приглашаемым участвовать в телевизионных дискуссиях) и экстремальным внутренним напряжением, проступающим только в его творчестве, и делает его фигуру такой неповторимой — и такой неповторимо привлекательной.