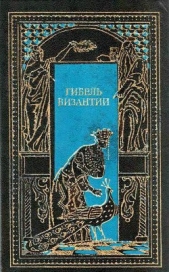Наш советский новояз

Наш советский новояз читать книгу онлайн
«Советский новояз», о котором идет речь в книге Бенедикта Сарнова, — это официальный политический язык советской эпохи. Это был идеологический яд, которым отравлялось общественное сознание, а тем самым и сознание каждого члена общества. Но гораздо больше, чем яд, автора интересует состав того противоядия, благодаря которому жители нашей страны все-таки не поддавались и в конечном счете так и не поддались губительному воздействию этого яда. Противоядием этим были, как говорит автор, — «анекдот, частушка, эпиграмма, глумливый, пародийный перифраз какого-нибудь казенного лозунга, ну и, конечно, — самое мощное наше оружие, универсальное наше лекарство от всех болезней — благословенный русский мат».
Из таких вот разнородных элементов и сложилась эта «Маленькая энциклопедия реального социализма».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не вдаваясь в выяснение причин, по которым автор книги о Щедрине и автор книги о Бальзаке должны участвовать в конференции, посвященной творчеству Цветаевой, устроители пошли навстречу пожеланиям московских коллег и ответили, что охотно пригласят указанных господ тоже.
Однако перед самым открытием конференции из Союза писателей СССР полетело в Италию новое письмо, в котором сообщалось, что В.Н. Орлов, А.И. Цветаева и В.Б. Сосинский — люди преклонного возраста и слабого здоровья — отправиться в столь далекое путешествие, к сожалению, не могут. Что же касается госпожи Саакянц и госпожи Кудровой, то эти две дамы, увы, не являются членами Союза писателей, по каковой причине связаться с ними руководству Союза не удалось. По всему по этому советская делегация прибудет в Италию лишь в составе двух ее членов — литературоведа Т. (автора книги о Салтыкове-Щедрине) и литературоведа П. (автора книги о Бальзаке).
На это, естественно, последовал ответ, что если лица, приглашавшиеся на конференцию итальянской стороной, приехать не смогут, то и господ Т. и П., навязанных устроителям конференции московской стороной, тоже просят не беспокоиться.
Гнев «московской стороны», вызванный этим вежливым отказом, не поддается описанию. Наглым итальянцам была послана нота, выдержанная в лучших традициях советской дипломатии. В ней говорилось, что нежелание допустить к участию в Цветаевской конференции двух известных советских литературоведов нельзя расценить иначе как провокацию, цель которой состоит в том, чтобы железным занавесом отгородиться от выдающихся достижений ученых, живущих и работающих на родине поэта.
Чем дело кончилось, я, по правде сказать, не знаю. Может быть, литературоведам Т. и П. так и не привелось съездить в тот раз в Италию. А может быть, итальянцы — так часто бывало — дали задний ход и в конце концов все-таки приняли странные условия игры, навязываемые им великой ядерной державой.
Эту историю я рассказал для того, чтобы показать, в каком причудливом контексте и с каким смыслом употреблялось в советском новоязе слово «провокация».
В таком же далеком от общеупотребительного значении это слово вошло не только в официальный политический жаргон, но и в нашу повседневную, бытовую речь.
Это было одно из главных слов советского лексикона.
Пытаясь характеризовать духовный облик советского человека, без этого слова не обойтись. В особенности если речь пойдет о психическом состоянии и поведении жителей нашей страны за границей.
Оказавшись за пределами родимой державы, советский человек жил в состоянии постоянного страха. Ни на минуту его не оставляла мысль, что в любой момент он может стать жертвой провокации. И в каждой незнакомой и не очень понятной примете чужой — заграничной — жизни ему мерещился жуткий призрак этой вот самой провокации.
Один мой сосед — известный и даже довольно знаменитый советский поэт — в числе первых советских туристов оказался в Австрии. И вот какую жуткую историю поведал он по возвращении об одном из самых острых тамошних своих впечатлений.
Очутившись в своем гостиничном номере, он, естественно, решил пойти в душ. С трудом освоив непростой пульт управления этим заграничным прибором (у них ведь там все не так, как у нас), отрегулировал воду до нужной ему температуры, пустил ее щедрой струей, всласть намылился, и… И тут-то все и произошло. Вода вдруг прекратила течение свое. Вырубилась. Как отрезало.
Потом оказалось, что у педантичных австрийцев — не как у нас, безалаберных россиян, — вода в душе не выдается моющимся гражданам в неограниченном количестве, а выделяется строго отмеренной мерой. Когда отмеренная порция кончается, желающий продолжить процедуру должен опустить в соответствующее отверстие шиллинг. И мыться в свое удовольствие дальше.
Наш поэт ничего об этом, конечно, не знал. И поэтому сперва подумал, что произошла обычная в наших краях техническая неполадка. Но он тут же в этом и усомнился. Все, что приходилось ему слышать о заграничной жизни, подсказывало ему, что У НИХ (в отличие от нас) никаких таких технических неполадок не бывает. Значит… Значит — провокация! Одна из тех, о неизбежности которых его предупреждали…
Как бы то ни было, положение его было ужасным.
С трудом вспомнив подходящие к случаю немецкие слова, он заорал:
— Фрау!.. Вассер!..
Но фрау на его призывы не откликалась. И вода не шла.
По правде говоря, я уж не помню, как он там выкарабкался из этой ужасающей ситуации. Как-то все-таки выкарабкался. Но, рассказывая об этих своих переживаниях, он завершал этот свой рассказ всякий раз одной и той же фразой:
— Представляешь? Голый… Весь в мыле… В капиталистической стране!
И выражение его лица при этом не оставляло сомнений, что и потом, когда причина случившегося разъяснилась, он так и остался при убеждении, что это была самая что ни на есть настоящая провокация, цель которой состояла в том, чтобы унизить его достоинство советского человека. Каковая цель — увы, приходится это признать — в конечном счете и была достигнута.
А вот еще одна история про то, как было унижено достоинство советского человека. В этот раз дело тоже происходило за границей. В огромном каком-то европейском аэропорту. И объектом унижения в этом случае, как на грех, тоже стал поэт.
В аэропорту этом он оказался не один, а с группой товарищей. Но товарищи, ловя последние счастливые миги заграничной жизни (они все уже возвращались из своей загранпоездки домой), отправились бродить по разным закоулкам этого гигантского аэропорта, а он, сославшись на усталость, с ними не пошел. Сказал, что посидит, подождет их вот здесь, в этом зале.
Ждать ему пришлось довольно долго, и в процессе этого ожидания ему смертельно захотелось по малой надобности.
Особых проблем с этим делом в Европе, как известно, не бывает. Туалет оказался рядом. Но чтобы туда попасть, надо было (проклятый мир чистогана!) что-то такое заплатить, кинуть в щель какую-то монетку. А этой самой монетки у него как раз и не было.
Желание облегчить мочевой пузырь все нарастало, с каждой минутой становилось все более и более нестерпимым. И тогда наш поэт, близкий к отчаянию, пошел на такой смелый шаг. Он давно уже приметил, что дверь, ведущая в кабину, не доходит до пола. Между нею и полом было довольно большое пространство, в которое он, сравнительно молодой и довольно спортивного сложения человек, без особого труда мог протиснуться. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг — ни души, отважный поэт быстро осуществил свой гениальный план и, оказавшись в кабине, удовлетворил наконец свое желание, испытав при этом знакомое каждому блаженство.
Но когда дело было сделано и он совсем уже готов был тем же манером выбраться из кабины наружу, он с ужасом обнаружил, что зал ожидания уже не так пуст, как это было минуту назад. В непосредственной близости от его кабины две какие-то иностранные дамы что-то такое щебетали на своем иностранном языке.
Блаженное состояние, вызванное освобождением мочевого пузыря, настроило нашего героя на оптимистический лад. Он беспечно подумал, что неприятная эта заминка — ненадолго. Сейчас эти дамы уйдут, и тогда…
Но когда дамы ушли, на их месте появились другие. А там и весь зал медленно, но неуклонно стал заполняться пассажирами. С каждой минутой положение становилось все более угрожающим. Пассажиры всё прибывали. За стенками кабины уже раздавался несмолкающий гул множества голосов. Надежд на то, что удастся выпутаться без скандала, становилось все меньше. Тем более что, кажется, уже даже объявили посадку на их рейс.
Пока он предавался этим печальным размышлениям, в зале появились его товарищи. Не обнаружив своего спутника там, где его оставили, они сперва не слишком обеспокоились: мало ли что — живой человек! Но по мере того как время шло, беспокойство их все возрастало. Черт возьми! Ведь их же предупреждали, что никто из них ни в коем случае не должен оставаться в одиночестве: гулять, ходить, а теперь вот выяснилось, что и сидеть можно только группами. В крайнем случае — парами.