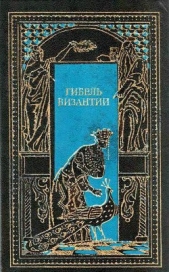Наш советский новояз

Наш советский новояз читать книгу онлайн
«Советский новояз», о котором идет речь в книге Бенедикта Сарнова, — это официальный политический язык советской эпохи. Это был идеологический яд, которым отравлялось общественное сознание, а тем самым и сознание каждого члена общества. Но гораздо больше, чем яд, автора интересует состав того противоядия, благодаря которому жители нашей страны все-таки не поддавались и в конечном счете так и не поддались губительному воздействию этого яда. Противоядием этим были, как говорит автор, — «анекдот, частушка, эпиграмма, глумливый, пародийный перифраз какого-нибудь казенного лозунга, ну и, конечно, — самое мощное наше оружие, универсальное наше лекарство от всех болезней — благословенный русский мат».
Из таких вот разнородных элементов и сложилась эта «Маленькая энциклопедия реального социализма».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приглядевшись, я узнал оратора. Это был Степан Павлович Злобин — человек редкой смелости, честности и благородства. Что же он такое сказал? — успел подумать я, ругая себя за то, что проспал что-то интересное, а может быть, даже и важное. Но оказалось, что очнулся я вовремя: самое интересное и важное только началось.
Обернувшись к столу президиума и указывая на сидящих за этим столом рукой, Степан Павлович кинул им прямо в их сановные рожи:
— Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!..
Лица секретарей и партийных функционеров стали багровыми.
Голос Степана Павловича гремел:
— Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — всё молчи!..
Зал наслаждался. Сидящие в президиуме ежились. Лица их из багровых стали фиолетовыми. Но что они могли сделать? Нельзя же было запретить оратору читать вслух стихи Лермонтова. Так что пришлось им — в кои-то веки! — услышать всю правду о себе. Высказанную публично, при большом стечении народа и в самых нелицеприятных выражениях.
Привычно обозначая сидевших в том президиуме местоимением третьего лица («они», «им»), я как бы предполагаю тем самым, что речь идет об одних и тех же людях, — словно членство в президиуме очередного какого-нибудь собрания было их постоянной должностью. Но так оно, в сущности, и было. Герой романа Бакланова не зря ведь так обмишулился: пройдя через зал прямо к столу президиума и усевшись там, даже не соизволив узнать, избран он или не избран в этот «руководящий орган». Зачем ему было об этом осведомляться, если там, в президиуме, было его постоянное место. Каждый, кто уже однажды попал в эту номенклатуру, всегда именно так и поступал.
Кое-какое значение имела тут, наверно, и личная инициатива. Но — небольшое.
Однажды я слушал, как Михалков (главный Михалков, старший — Сергей Владимирович) говорил кому-то про одного хоть и молодого, но уже набиравшего силу (не в творческом, разумеется, а в карьерном, административном смысле) поэта:
— Он — наглец. Входит в зал и сразу лезет в президиум, как будто так и надо. — Подумал и добавил: — Я, правда, делаю то же самое. Но я это делаю на обаянии. А ведь это именно то, чего у него как раз и нет.
На самом деле, конечно, Сергей Владимирович делал это тоже не только на обаянии. Просто он знал, что имеет право. И не сомневался, что никто и никогда у него этого права не отберет.
Обаянием, конечно, можно достичь многого. Но чтобы так вот просто, по собственному волеизъявлению усесться в президиуме, да чтобы никто тебя оттуда не попросил, — одного только обаяния тут явно недостаточно.
Хотя однажды был и такой случай.
В так называемом Дубовом зале писательского клуба шло собрание московских поэтов. Как водится, был избран президиум, в который вошли все, кому полагалось туда войти. Собрание уже набирало обороты, когда открылась дверь, отделявшая зал заседания от ресторана, и в зал вошел Михаил Аркадьевич Светлов. Он, по-видимому, довольно сильно принял, потому что на ногах держался с некоторым трудом. Огляделся, ища стул. Но поблизости свободного места не нашлось. И тогда, слегка пошатываясь, он двинулся к столу президиума, углядев там единственное незанятое, свободное место. Усевшись там, он облокотился локтями на зеленое сукно, положил голову на ладони и тихо, мирно задремал.
Председательствоваший на том собрании Степан Петрович Щипачев нашел неожиданный, но, надо сказать, остроумный выход из создавшегося щекотливого положения.
— Есть предложение, — обратился он к залу, — кооптировать Михаила Аркадьевича в президиум.
Предложение это было встречено веселым гулом, кажется, даже аплодисментами. Все дружно проголосовали «за».
А Михаил Аркадьевич так мирно и проспал за столом президиума до самого конца собрания. Наутро он, естественно, ничего не помнил. А когда ему рассказали о вчерашнем его подвиге, меланхолически заметил:
— Вот как легко сделать карьеру. Для этого, оказывается, нужна всего лишь добрая порция хорошего армянского коньяка.
Сам я при этом не был, историю эту знаю (и пересказываю) со слов моего соседа — старого московского поэта Я.А. Хелемского. Но кое-что к свидетельству очевидца все-таки хочу добавить.
Степан Петрович Щипачев особой смелостью не отличался. Скорее даже был он робок. Во всяком случае — законопослушен. Среди остряков, которые ради красного словца не пожалеют родного отца, тоже не числился. И если он позволил себе эту маленькую вольность, значит, ничего такого уж рискованного для него в ней не было. Либо то собрание было не шибко важное. Либо слово «президиум» уже теряло тогда свою сакральную, магическую силу.
Попробовал бы он вот так «кооптировать» Михаила Аркадьевича в президиум какого-нибудь из тех собраний, что проходили в том же Дубовом зале, скажем, в 49-м году, когда громили «безродных космополитов».
Даже мысль такая тогда у него бы не возникла.
Да и сам Михаил Аркадьевич, сколько бы ни принял на грудь доброго армянского коньяку, пробираться к столу того президиума, чтобы усесться там рядом с Грибачевым и Софроновым, наверняка не стал бы. Единственное, что он мог себе тогда позволить, — это, стоя на деревянной лестнице, ведущей на балкон, меланхолически кинуть в пространство:
— Что они от нас хотят? Вот мы уже пьем, как они…
Провокация
В 60-е годы был распространен такой анекдот:
► В Египте обнаружили неизвестную прежде мумию какого-то фараона. Необходимо было установить личность покойника. Для этой цели съехались искусствоведы из всех стран мира. Из СССР тоже прибыли два искусствоведа в штатском. И разгадать загадку удалось только им. Искусствоведы других стран долго что-то там высматривали, вынюхивали, но толком ответить на поставленные вопросы так и не смогли. А наши провели наедине с мумией несколько часов и сразу назвали имя фараона, эпоху, годы его царствования. Все, понятное дело, стали интересоваться, как удалось им так быстро все это выяснить, да еще с такой потрясающей точностью. Они охотно объяснили:
— Сам признался!
После этого анекдота выражение «искусствоведы в штатском» стало расхожим. А в литературной среде у него тотчас появился аналог: «Литературоведы в штатском». Кличка эта пристала ко многим…
Ни один из литературоведов, о которых пойдет речь в этом моем рассказе, к категории «литературоведов в штатском» в собственном (одиозном) смысле этого слова отнесен быть не может. А почему я тут вспомнил это — ставшее крылатым — выражение, будет ясно из дальнейшего.
В 70-е годы Марина Цветаева уже прочно вошла в первую десятку (а может быть, даже и пятерку) русских поэтов XX века. На Западе о ней писались диссертации, выходили монографии, собирались специально посвященные ей симпозиумы и научные конференции. Одну из таких конференций — весьма представительную — предполагалось провести в Италии. И устроители этой конференции направили в Москву, в Союз писателей СССР, письмо, в котором они приглашали принять в ней участие соотечественников поэта — известного литературоведа Владимира Николаевича Орлова, подготовившего и выпустившего со своим предисловием том Цветаевой в большой серии «Библиотеки поэта», родную сестру Марины Ивановны — Анастасию Ивановну Цветаеву, Владимира Брониславовича Сосинского, дружившего с Цветаевой в эмиграции, в Париже, и двух литературоведов, давно занимающихся изучением жизни и творчества Цветаевой — Анну Саакянц и Ирму Кудрову.
Посовещавшись и, разумеется, согласовав свое решение с начальством, руководство Союза писателей ответило на это приглашение письмом, в котором сообщалось, что делегация в указанном выше составе безусловно на конференцию прибудет. Но при этом высказывалась просьба, чтобы в число ее членов включили еще двух известных советских литературоведов: литературоведа Т. (автора книги о Салтыкове-Щедрине) и литературоведа П. (автора книги о Бальзаке).