Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
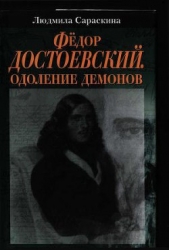
Фёдор Достоевский. Одоление Демонов читать книгу онлайн
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.
Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с H.A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов ми|х>ной литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда пи в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H.A. Бердяев).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«В отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими» [274] , — «разоблачал» Достоевского Страхов.
«Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет», — укорял Тихон Ставрогина; и Николай Всеволодович, как и всякий другой автор на его месте, пытался выяснить, о каких именно «иных местах» идет речь. «То есть, — подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки… и всё, что я говорил о моем темпераменте и… ну и всё прочее… понимаю. Я вас очень понимаю».
Понимал ли Катков, что, запрещая главу «У Тихона» из‑за сцены с Матрешей, он как бы «цитирует» старца? Что замечания цензурного свойства, сделанные автору «Бесов», очевидно, «глаз на глаз», оказываются литературным плагиатом, а редакторские советы (Катков, как и Тихон, читал не рукопись, а типографский набор) — чисто ритуальным жестом? Что эстетический подход церковного иерарха к изломанному стилю исповедального «документа» он, редактор литературного журнала, автоматически применяет к роману, где этот «документ» работает художественно? И что вольно или невольно на место великого грешника и смиренного праведника из отвергнутой журналом главы он ставит Достоевского и себя?
«Федору Михайловичу… необходимо было приписать герою своего романа какое‑либо позорящее его преступление» — именно так выразилась, как мы помним, Анна Григорьевна. «Этим страшным преступлением я казнил Ставрогина в „Бесах”» [275]. — так, по свидетельству З. А. Трубецкой, говорил сам Достоевский. Теперь ему приходилось брать на себя заботы по спасению «листков», согласившись (в отличие от Николая Всеволодовича) «в документе сем сделать иные исправления», которые, по примеру Тихона, потребовал от него Катков.
«Тогда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя, разве сделать какие‑нибудь перемены самые мелкие, — сообщал Достоевский племяннице Сонечке 4 февраля, почувствовав, что его намерение легко и быстро, одними лишь поправками «в слоге», отделаться от настояний «Русского вестника» практически неосуществимо. — И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большею частию сидя на извозчиках, четыре плана и почти три недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, то есть, оставляя сущность дела, изменил текст настолько, чтоб удовлетворить целомудрие редакции. В этом смысле пошлю им ultimatum. Если не согласятся, то уже я и не знаю, как сделать».
Одним из четырех планов был, по — видимому, тот, о котором вспоминала Анна Григорьевна. «Варьянтов было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное происшествие, о котором мужу кто‑то рассказывал). В сцене этой принимала преступное участие «гувернантка», и вот ввиду этого лица, которым муж рассказывал варьянт (в том числе и Страхов), прося их совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в подобном бесчестном деле «гувернантку» и идет таким образом против так называемого „женского вопроса”» [276].
Чем больше Достоевский советовался с «лицами», тем меньше шансов у него оставалось для того, чтобы «удовлетворить целомудрие» советчиков и в Петербурге и в Москве: им всем, видимо, очень нравилось, в подражание отцу Тихону, демонстрировать непогрешимость литературного вкуса. Никто из них, ближайших литературных друзей Достоевского, не взял его сторону; «некрасивость» преступления, которое «приписал» своему герою Достоевский, чтобы «казнить» его, вся комически постыдная история, о которой печалился старец Тихон, прочитав «листки» Ставрогина, убивали теперь не только идею покаяния великого грешника, но — по инерции — ставили под угрозу и судьбу романа. Какое бы иное преступление ни изобрел для «бедного, погибшего юноши» автор романа, оно было обречено — и на «некрасивость», и на «не- целомудренность», — а иначе в чем бы грешнику было каяться? Ведь даже о той истории из «листков» умудренный старец заметил: «Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью».
Когда осенью 1871 года Достоевский написал эти слова, он и представить себе не мог, насколько опасны они лично для него.
В самом начале марта 1872 года, изложив сотруднику «Русского вестника» H. A. Любимову новый план окончания «Бесов» и высказав пожелание, чтобы главой «У Тихона» открывалось печатание третьей части романа, Достоевский начал сражение за право героя на экстравагантные поступки и за их общую свободу слова. Еще через месяц, отправив в Москву текст, переделанный по «целомудренному» плану, он писал в «Русский вестник»: «Мне кажется, то, что я Вам выслал (глава 1–я «У Тихона», 3 малые главы), теперь уже можно напечатать. Всё очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя еще сильнее обозначится впоследствии».
К ключевым словам московской и петербургской моральной цензуры, осудившей сцену с Матрешей за «реальность», «нецеломудренность», а также политическую недальновидность в «женском вопросе», теперь можно было прибавить еще и «скабрезность» — вряд ли Достоевский употребил бы этот эпитет от себя, если бы он не прозвучал из уст Каткова и его единомышленников. Оказывается, упреки Достоевскому по поводу его «слога» со стороны блюстителей литературных нравов были куда строже и суровей, нежели осторожная эстетическая критика, высказанная знатоком словесных ценностей архиереем Тихоном по поводу «листков» Ставрогина. К тому же у Николая Всеволодовича было некое бесспорное преимущество, которое давало ему свободу непослушания и маневра, если бы он все же решился обнародовать «листки» в том самом виде, в каком их читал Тихон. «Я в вас совсем не нуждаюсь… Я умею сам обойтись», — с вызовом подчеркивал строптивый автор документа.
Автор романа, однако, не мог, по примеру героя, сказать издателю: «Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны… не трудитесь отговаривать… Какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану». Как не мог он опубликовать третью часть «Бесов» вместе с запрещенной главой где‑нибудь отдельно, «тонкой, заграничной печатью». Он не просто нуждался в Каткове и «Русском вестнике», но — связанный системой всегдашнего долга — крайне зависел от них. Когда пять лет спустя «Русский вестник» попытался навязать свою волю независимому и обеспеченному автору «Анны Карениной», ничего не вышло; в мае 1877 года Л. Н. Толстой писал Страхову: «Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля, учтиво прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел, и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю». Когда же Л. Н. Толстой действительно издал восьмую часть романа отдельной книжкой (в чем ему усердно помогал Страхов), сопроводив издание специальной справкой об истинных причинах такой акции, «Русский вестник» со своей стороны поместил заявление «От редакции», оповещавшее, что «со смертью героини, собственно, роман кончился», и пересказывавшее в пяти строках «небольшой эпилог» [277] .
Достоевскому его ultimatum не удавался. Он не мог поставить под удар дело трех лет, все его советчики были против него, и никто из них не стал бы ему говорить тех слов, которыми утешал Л. Н. Толстого Страхов: «С журналами связываться — и не стоит мараться». Тон его письма в «Русский вестник», адресованного даже не Каткову, а всего только ничего не решавшему соредактору H. A. Любимову, совсем не походил на ультимативный. Теперь, когда переработанный вариант главы был в руках редакции, Достоевский знал, что спасти ее может хотя бы некоторая авторская реабилитация героя.






















