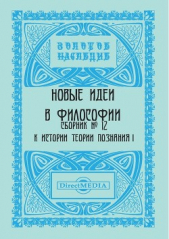История и повествование

История и повествование читать книгу онлайн
Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях. Являясь очередным томом из серии совместных научных проектов Хельсинкского и Тартуского университетов, книга, при всей ее академической значимости, представляет собой еще и живой интеллектуальный диалог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Со второй половины XIX столетия стремление к фактографии становится определяющей чертой русской прозы. Появление беллетризованных биографий, дискуссии вокруг натуральной школы, расцвет физиологического очерка, мемуарных и автобиографических жанров [678], а также цепь мелких скандалов, которые были связаны с изображением реальных лиц в художественных произведениях [679] и завершились в 1864 году большой полемикой вокруг прототипического романа Н. С. Лескова «Некуда», названного рецензентом «плохо подслушанными сплетнями, перенесенными в литературу» [680], — все это стало прологом новой волны документализма 70-х годов. В эту позднейшую эпоху весь круг идей «реального письма» в России так или иначе оказывается связанным с французскими натуралистами. Новые теории и терминология, как правило, ассоциирующиеся с именем главы школы — Эмилем Золя, применялись в том числе для описания знакомых литературных явлений, с которыми в той или иной мере уже сталкивался отечественный читатель. Поэтому реакция русской критики на эти веяния была отнюдь не однозначной. Часть ее признавала скандальную новизну идей «золаизма», а часть придерживалась иного мнения и считала, что все, о чем говорят французы, было бы новостью 20 лет назад, отсчитывая приблизительно от эпохи 50-х годов, поры расцвета очерка и фельетона в русской прозе [681]. Тем не менее интерес к новым французским писателям был достаточно велик. Появилось большое количество пересказов и переводов художественных текстов, журнальных статей и корреспонденций, популяризирующих новые идеи, а также специальные работы на эту тему [682]. Вариации невыделенных и неточных цитат из современных провозвестников натурализма, которыми пестрит критика того времени, в особенности из статей Золя о литературе, публикуемых в «Вестнике Европы» и частично изданных затем отдельным сборником под одноименным с журнальной рубрикой названием «Парижские письма», свидетельствовали о том, что они пользовались определенным вниманием и являлись основными источниками описаний поэтики «новой школы». Программная статья Золя «Экспериментальный роман» была буквально разнесена на крылатые выражения, авторство которых быстро выпало из памяти критиков и читателей. Хорошо известно, что в своих работах о литературе Золя использовал целый ряд тезисов из трудов знаменитого французского физиолога К. Бернара, в частности из его монографии «Экспериментальная медицина» (отсюда и название «экспериментальный роман»). На этот источник не раз ссылался и сам автор: «…я намерен по всем пунктам держаться Клода Бернара. Чаще всего мне будет достаточно заменить слово „экспериментатор“ или „медик“ словом — „романист“, чтобы придать своей мысли ясность и силу научной истины» [683]. «Теория Золя, — писал Виктор Бибиков, — совпала с теорией искусства людей шестидесятых годов по вопросу о подчинении поэзии науке» [684]. Это было лишним свидетельством того, что в литературе продолжал утверждаться реалист-ученый, провозгласивший смерть «человека метафизического» [685] и противопоставивший «точно наблюденные человеческие документы прежней идеализации высоких чувств» [686]. Таким образом, выражение «человеческий документ» появилось в контексте идей «экспериментального» романа, завоевав неожиданную популярность и связавшись у большинства современников с именем Золя. Метафора писателя как «собирателя человеческих документов» стояла в общем ряду с образами «аналитиков» и «признающих авторитет фактов» «ученых» [687]. В предисловии ко второму изданию романа «Тереза Ракен», ставшем одним из важных манифестов «натурализма», Золя писал:
В настоящий момент мы собираем и классифицируем документы, особенно в романе. <…> Надо предоставить науке формулировать законы, а мы, романисты и критики, только пишем протоколы.
Итак, заключаю: в наши дни и романист, и критик — оба отправляются от определенной среды и человеческих документов, взятых прямо из жизни и пользуются одними и теми же методами. <…> Отсюда ясно, что романист-натуралист является отличным критиком. Ему нужно только применить к изучению писателя орудие наблюдения и анализа, которым он пользовался, когда изучал своих героев, списанных с натуры [688].
Жаргон натурализма ввел в культурный обиход времени ряд слов и выражений, которые прежде всего являлись характеристиками нового стиля. Впоследствии, вместе с модой на «достоверность», «фактографию», некоторые из них будут вновь возвращаться в литературу. К числу таких спутников документализма принадлежат позднее стершиеся и превратившиеся в штампы метафоры «сырой материал» и «протокол» действительности [689]. Они были актуализированы поэтикой натурализма и для нас важно, что во второй половине XIX столетия вошли в комплекс представлений о «человеческом документе». В эпоху натурализма, насыщенную естественно-научными подтекстами, метафора «протокол» зачастую приобретала «полицейско-медицинские» коннотации и служила отсылкой к соответствующим формам документа. Писательство сравнивалось с «анатомированием», а сам писатель с «судебным приставом» [690] и «анатомом» [691], которые были вооружены приличествующими случаю аксессуарами — «скальпелями» и «ланцетами» [692]. «„Сырой материал“, — писал один из русских критиков, — это безобразная куча мяса, в которой роется настоящий анатом или судебный следователь, составляющий протокол на месте убийства. Если бы только в точности наблюдения и в правде судебно-медицинского протокола состояла задача реальной школы, то великих художников надо было бы искать не в литературе и не в искусстве, а в препаровочных и в полицейских участках» [693].
В литературно-художественной практике «новая школа» нашла самое разное выражение. Хорошо известно, например, что психические и физические расстройства в романах «натурализма» изображались с максимальной достоверностью. Об этом свидетельствовал и итальянский психиатр Ц. Ломброзо, который утверждал, что романы Достоевского и Золя развивают близкие ему идеи и что, благодаря правдивому изображению болезни в произведениях последнего, он мог ставить точные клинические диагнозы его литературным персонажам [694]. Именно апеллируя к такой «научной» правдивости, Ломброзо называет романы Золя «современной историей, опирающейся на живые документы точно так же, как настоящие историки дают ее на основании мертвых документов» [695]. О «фотографичности» и «документальности» стиля натуралистов упоминалось почти в каждом отзыве на их произведения. В отчете о постановке одной из драм Золя в Париже рецензент констатировал: «Знаменитая прачечная, кабак, кузница, мансарда Жервезы — переданы декораторами с фотографической верностью. <…> Игра отличалась таким же реализмом <…>» [696].
В том же контексте рассматривалось и жизнетворческое поведение самого Золя, с ведома которого во французской, а затем и в русской печати публикуются отрывки из «психо-физиологических» интервью писателя известным психиатрам, пытающимся открыть закон «гениальности». Эти «медицинские» заметки были восприняты читателями как «человеческие документы»: «Золя, который всю жизнь гонялся за „документами“, сам сделался предметом документа!» [697]. Характерно и то, что одно из своих интервью Золя назвал «исповедью», придавая тем самым специфическое значение этому слову: «Оканчивая свою исповедь, — писал он, — скажу, что я близорук и ношу очки № 9» [698]. Можно добавить, что и «предсмертные» слова Золя («Э, полно, пустяки… плохое пищеварение!»), якобы сказанные жене, пожаловавшейся на дурное самочувствие, и сама его смерть («от мелкой и случайной причины») были восприняты в том же ключе: «Разве это трагедия? Нет, это — эпизод из натурального романа, это, в полном смысле — человеческий документ» [699].