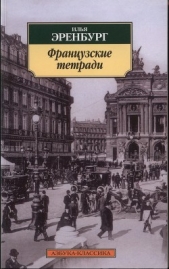Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского

Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского читать книгу онлайн
Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.
Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И последняя пометка к этой картине определит тональность состояния Мышкина в «Аглаином царстве»:
«Слава богу — счастлив предельно».
Первый и последний раз.
Роза Сирота, вспоминая процесс работы, выделяла репетиции именно этой сцены: «Смоктуновский настойчиво в последний период работы над ролью требовал: «Скажи, какой он? Дай форму!» Репетиции шли нервно, он мучительно искал пластику, а я не могла, да и не хотела форсировать рождение этого таинственного существа, уж очень необычен и многообещающ был зародыш, и вот на репетиции сцены «Скамейка» вдруг появился странный наклон головы, необычный ракурс, вывернулось колено, беспомощно повисли руки, нервно задрожал голос — родился Мышкин и стал жить по своим неведомым законам».
Первая пометка определяет эмоциональное состояние героя:
«Уже начинает уходить ощущение мира. не может спокойно жить, когда кругом так много зла и плохого».
Еще ничего не случилось, он пришел на свидание, назначенное любимой девушкой. Но счастья и мира уже нет. Собственное счастье неизбежно окажется несчастьем для других:
«Как только появляются надежды на счастье, тотчас появляется образ Н.Ф.».
С первой ноты артист начинает эту тему «жалости», которая выше любви. Жалости, которая не позволит купить собственное счастье ценой несчастья любящей и страдающей женщины. Чем дороже Аглая, чем ближе и возможнее их любовь, тем больше тревога:
«Зачем она позвала?!»
И, проснувшись и увидев над собой Аглаю, а не ту, другую, чье присутствие ощущал во сне, почувствует мгновенное облегчение:
«Это хорошо, что это Вы».
Смоктуновский, расписывая любовную сцену с Аглаей, дает общую формулу любовной сцены:
«ЧТО ТАКОЕ ИГРАТЬ ЛЮБОВНУЮ СЦЕНУ — ЭТО ИГРАТЬ ЕГО-ЕЕ. ЧТО С НИМ, ЧТО С НЕЙ».
И дает словесные описания происходящего «с ним»: теплая волна, которая накатывает от близости любимого существа, растворение в любимой, абсолютный и полный покой, безмятежная, чисто физическая радость от ее присутствия:
«Любит неотрывно.
Смотрит — покой.
Непрерывное ожидание счастья,
За это прячет свою любовь Мышкин».
Он слушает и не слышит, воспринимает скорее не ее фразы, но тон. На ее возмущение дурными отзывами о нем: «Если про вас говорят: болен иногда умом — то это несправедливо» — Смоктуновский помечает
«Поблагодарить ее взглядом».
И единственное, чего он не хочет и чего боится, — темы Настасьи Филипповны:
«Избегает темы Н. Ф.
Обходить этот вопрос».
Его Мышкин вполне сознательно пытался уклониться от неприятных тем, но и от тем стишком интимных, от тем, которые заставляют делать какие-то следующие шаги на пути, которого жаждет и которого боится. Когда Аглая называла его письмо — любовным, и Мышкин переспрашивал: «Мое письмо любовное?», — Смоктуновский дал неожиданный подтекст этому вопросу:
«ВОТ ВСЕ ТО, ЧТО МЕНЯ ПУГАЕТ».
Не недоумение, не возражение, но испуг перед внезапно открывающейся бездной, к которой стремительно приближаются и он и Аглая. Страшно выйти за пределы четко очерченного круга нежности, обожания, восхищения в абсолютно иной мир: любовной страсти. Ужас этого перехода, грозящего разрушить счастливое душевное равновесие. Ему жаль любящую его девушку, жаль безмерно:
«Как вы побледнели».
И внутренняя страшная догадка-предвидение:
«Я ЕЙ ПРИЧИНЮ СТРАШНУЮ БОЛЬ».
И тут Смоктуновский находит неожиданный образ отношения Мышкина к Аглае, вдруг резко переводя любовную сцену в иной план и регистр:
«Аглая — это страдание человеческое».
И всезатопляющая нежность к этой страдающей ревностью и гордостью девушке уже больше, чем влюбленность. Тем более что в нем живет предчувствие, что ничего не выйдет, потому что в самой глубине души:
«Н. Ф. — над всем этим».
На полях реплик Мышкина, объясняющего Аглае, что он уже не любит Настасью Филипповну («О, я любил ее, очень любил, но потом… потом она все угадала. Что мне только жаль ее, что я уже не люблю ее…»), короткий комментарий Смоктуновского:
«Самоуверение».
И дальше один из немногочисленных в тетрадях Смоктуновского общий совет по строительству роли:
«Самое главное удовольствие зрительного зала — угадывать.
Входит одним — вышел другим: закон каждой сцены».
Короткая конспективная форма записи двух важных правил, которыми Смоктуновский будет руководствоваться в дальнейшем, позволяет предположить, что перед нами записи советов Г. А. Товстоногова актерам, прежде всего дебютанту в его театре — исполнителю главной роли князя Мышкина. Понятно, что Смоктуновскому не было необходимости помечать на полях, является ли та или иная фраза собственной находкой или подсказкой режиссера. Он не оставил записей, позволяющих судить о том, какую роль сыграл тот или иной режиссер в его артистическом формировании. Heт сомнений, что рождение артиста Смоктуновского во многом обусловлено работой с Товстоноговым, чью роль в формировании его творческой техники трудно переоценить. И косвенным подтверждением этому служит значительное количество оставшихся в актерской тетради Мышкина советов-наблюдений по технологии актерского творчества, подсказок не только для конкретных сцен и ситуаций, но указаний общего плана, показывающих, что на репетициях «Идиота» шел процесс учебы артиста у режиссера-мастера, не просто готовилась роль — шлифовалось мастерство.
Товстоногов позднее вспоминал о репетициях: «Мы все — Смоктуновский, мой помощник по спектаклю режиссер Роза Сирота и я — пробирались к главному зерну роли постепенно. На первом этапе работы мы пережили много трудностей. И. М. после особых условий киносъемок вначале не схватывал протяженной, непрерывной жизни в образе. Но, обладая тончайшей артистической натурой — инструментом на редкость чутким и трепетным, — он преодолел грозившие ему опасности.
Мы искали вместе и радовались каждой находке. Режиссер испытывает особую радость, когда сталкивается с актером не только исполнительным, но импровизатором. Смоктуновский такой артист. Получив мысль, он подхватывает ее на ходу и возвращает обогащенной новым качеством. Тогда-то и возникает не только взаимопонимание, но и взаимотворчество.
Сколько раз за время репетиций наш будущий Мышкин открывал нам его в новых душевных поворотах! Как дороги были неожиданные интонации, детали, не предусмотренные заранее…».
«Обе поднялись и, бледные, смотрели друг на друга».
В этой картине Мышкин был скорее не действующим лицом, а страдательным. Вообще, героям Смоктуновского часто будет выпадать эта страдательная роль: свидетеля событий. Или точнее: их катализатора. Смоктуновский сыграл в Мышкине драму человека-катализатора, который всюду, где ни появляется, ускоряет течение событий, меняя накал происходящего, заставляет окружающих раскрываться с неожиданной стороны. В этой сцене Мышкина делили самые дорогие ему женщины, все больнее и больнее раня друг друга. Беспомощный, лишенный возможности вмешаться, он тем не менее был главным лицом в этой сцене — зритель-судья, к которому апеллируют обе стороны. Практически лишенный реплик, тихо стоящий в стороне, его Мышкин мог только слушать и проживать происходящее:
«Просить глазами Аглаю, чтобы она прекратила
Такое ужасное поведение.
Потерял дар речи — хотеть сказать и мочь сказать.
За что? Почему все на одну ее??»
Кирилл Лавров вспоминал о репетиции этой сцены: «Смоктуновский должен был просто стоять в углу и слушать, как его «делят» Аглая с Настасьей Филипповной. И все эти пятнадцать минут его молчания мы не могли оторвать от него глаз…». То есть внутренний крик Мышкина был внятен зрительному залу. Бившиеся в нем боль, страх, сострадание, не выраженные словами, жестами, мимикой, тем не менее передавались зрителям.
Кинувшись вслед за Аглаей, его Мышкин возвращался к протянувшей за ним руки Настасье Филипповне
«Аглая, вы видите, что я не ногу идти с вами.