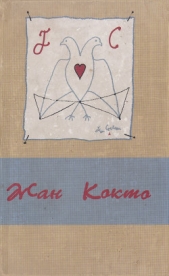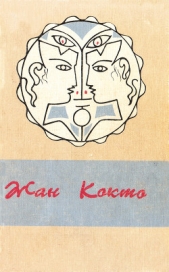Эссеистика
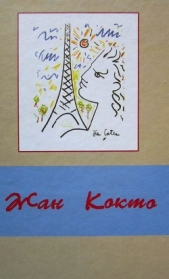
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Школьные учебники по Истории пичкают нас банальными рассказами, в то время как легенды придуманной истории манят тем, что легло в их основу.
Легенды — вершина мифотворчества, меня восхищает их серьезность: суд оправдал Геракла, убившего своего учителя Линоса ударом меча по голове за то, что Линос хотел его поправить: ученик имел полное право защищаться. Нет ни единого изъяна в этой восхитительной пурпурной ткани, сотканной греками, из которой состоит благородная сущность невидимого.
Отдадим ей должное, ибо она правдивей и понятней, чем иные события, записанные в хронике и запутанные до непостижимости. Пока какой-нибудь Мишле или новый Александр Дюма не опутают их своими вымыслами.
Человек, смакующий легенды, никогда не будет достаточно защищен от их игривых подмигиваний. Легендам нужен такой же прочный фундамент, как и приземленной реальности. Лао-Цзе даже Конфуция обвинял в мирской легковесности. Конфуция, который, выходя к своим ученикам, заявлял: «Я видел змия».
Знаменитая стела в честь маленького Септентриона (севера), «танцевавшего три дня, а затем умершего», увековечивает память вовсе не юного антибского танцора. Она символизирует мистраль, дующий от трех до шести дней. Надпись тоже символична. Символична для земледельцев, которые на четвертый день могут наконец вернуться на свои поля.
Суровость легенд обусловлена тем, что их вещи тянутся из проросшего семени. Коль скоро мы уже начали говорить о Геракле: у Авгия, должно быть, имелась лишь одна грязная конюшня, и вовсе не нужно было поворачивать русло двух рек. Но если бы наведение чистоты не стало одним из подвигов Геракла, мы не узнали бы имя Авгия. Цербер остался бы обыкновенной потерявшейся сторожевой собакой, которую Геракл вернул хозяину, — если бы Геракл не отправился за ним в преисподнюю и не пообещал тени Мелеагра жениться на его сестре.
Честертон прав, когда пишет, что Иерусалим — это маленький город, полный великих идей, и что в большом городе идеи мелкие.
Какая-нибудь площадь Вероны, населенная легендами, гораздо живее, чем площади, на которых возвышается памятник погибшим.
Об одной кошачьей истории
Не внушать восхищение. Заставить верить.
Кошачья история, рассказанная Китсом, никогда, насколько я знаю, не была записана. Она передается из уст в уста и по дороге меняет форму. Существует несколько версий этой истории, но по духу она все та же. Дух ее столь своеобразен, что я начинаю думать, а не по этой ли причине история лучше уживается с устной речью и паузами, чем с бегущим пером.
Вот что произошло. Китс собирался в деревню Ф. на обед к своему другу пастору. Надо было ехать верхом через лес. Китс заблудился. Тем временем смеркалось, и вовсе стало непонятно, куда ехать. Китс решил дождаться утра, привязал коня к ветке и отправился искать избушку дровосека, в которой он мог бы переждать ночь.
Он бродил по лесу, не решаясь слишком далеко уходить от того места, где привязал коня, и старательно отмечал на коре деревьев дорогу, как вдруг заметил свет.
Китс пошел на свет, который струился из развалин, не обозначенных ни в одном путеводителе. Это были античные арены, напоминающие Колизей: арки, ступени, обрушившиеся камни и куски стен, проломы, заросли кустарника.
Необычный свет мелькал внутри развалин, оживлял их. Китс подошел ближе, спрятался за колонной и заглянул внутрь.
То, что он увидел, заставило его замереть от изумления и страха. В полукруге амфитеатра, точно зрители на испанских аренах, расположились рядами сотни кошек. Они шевелились и мяукали. Вдруг раздались звуки крошечных труб. Кошки перестали возиться и повернули свои сверкающие зрачки направо, где мелькали огни и тени. Свет лился от факелов, которые несли пятьдесят котов в сапогах. За ними шла целая процессия котов в великолепных костюмах: среди них были пажи и трубящие в трубы герольды, были коты, которые несли гербы, и другие, которые несли знамена.
Процессия пересекла арену и совершила круг почета. Потом появились четыре белых кота и четыре черных, все при шпагах и в фетровых шляпах. Они, как и предыдущие, передвигались на задних лапах. Эти коты несли на плечах маленький гроб с золотой короной на крышке. За ними по двое следовали коты с подушками, на которых были пришпилены ордена, сверкавшие при свете факелов и луны всеми своими бриллиантами. Замыкали шествие барабанщики.
Китс подумал: «Мне это снится. Я задремал, сидя верхом, и грежу». Но сон — это одно, а реальность — совсем другое. Он не грезил. И знал это. Он заблудился ночью в лесу и оказался свидетелем обряда, не предназначенного для людских глаз. Ему сделалось страшно. Если только его заметят, все эти кошки из амфитеатра бросятся на него и растерзают своими когтями. Он отступил дальше в тень. Герольды трубили в трубы, знамена плескались по ветру, над головами плыл гроб — и все это в мертвой тишине, усугубляемой горделивым пением маленьких труб.
Обойдя кругом арену, процессия удалилась. Трубы смолкли. Огни потухли. Кошки сошли с трибун амфитеатра. Некоторые прыгнули в пролом, где прятался Китс. Развалины снова превратились в развалины, озаряемые только лунным светом.
Тогда Китсу пришла в голову мысль, еще более страшная, чем зрелище, свидетелем которого он оказался. Ему никто не поверит. Он никогда не сможет рассказать эту историю. Ее примут за выдумки поэта. Китс, конечно, знал, что поэты не выдумывают. Они свидетельствуют. Но Китс знал также и то, что все думают, будто они выдумывают. Китс едва не потерял рассудок, представив себе, какую тайну он должен будет носить в себе, не имея возможности ни освободиться от нее, ни разделить ее с кем-нибудь. Это был катафалк одиночества.
Он встряхнулся, отыскал коня и решил во что бы то ни стало выбраться из леса. В конце концов это ему удалось, и он приехал к своему другу пастору, который давно перестал его ждать.
Пастор был человеком высокой культуры, Китс уважал его и считал, что тот способен понять его стихи. Рассказав, что с ним случилось, Китс умолчал однако о кошках и амфитеатре. Слуги и весь дом спали, пастор был единственным, кто встал к гостю. Он накрыл на стол. Китс ел, храня молчание. Пастор удивился, что друг его как будто рассеян, и спросил, уж не болен ли тот. Китс ответил, что нет, но признался, что находится под воздействием неприятных впечатлений, рассказать о которых не решается. Пастор ободрил его и стал уговаривать не таиться. Китс отворачивался, упирался. Наконец пастор добился признания, что болезненное состояние гостя вызвано страхом, что ему не поверят. Пастор обещал поверить. Китс требовал доказательств. Он умолял пастора поклясться на Библии. Тот не мог, но заверил, что его дружеское слово равноценно пасторской клятве. «Я вас слушаю», — сказал он и откинулся в кресле, дымя трубкой.
Китс собрался было все рассказать, но снова остановился. Его охватил прежний страх. Пастора разбирало любопытство, однако он не нарушал молчания, и Китс наконец решился.
Он закрыл глаза и стал рассказывать. Пастор слушал из темноты. Окно было открыто в звездное небо. Потрескивал огонь. У очага лежала кошка и, казалось, спала. Китс описывал руины, странных зрителей, странное зрелище. Время от времени он приоткрывал глаза и взглядывал на пастора; тот, не поднимая век, попыхивал трубкой.
Внезапно произошло нечто подобное удару молнии, так что ни один из двух друзей не смог бы точно сказать, что именно случилось.
Китс рассказывал о процессии, факелах, трубах, знаменах, барабанах. Он подробно описывал костюмы, шляпы, сапоги. «Четыре белых кота и четыре черных, — сказал он, — несли на плечах гроб, украшенный золотой короной».
Едва он произнес эти слова, как кот, дремавший у огня, вскочил, выгнулся дугой, ощетинился и вскричал человеческим голосом: «Так значит, теперь я кошачий король!» И выпрыгнул в окно.
О памяти
Если бы все, что содержит наша память, могло вдруг материализоваться и выйти в открытый мир, оно бы заполонило его — а мы еще удивляемся, как подобное количество всякой всячины может помешаться в нашем мозгу. Кроме того, молодые воспоминания столь слабы, что спотыкаются, а старые так основательны, что топчут молодых. Если разбудить какое-нибудь старое воспоминание, оно вытянет за собой целую глыбу, из которой его выдернули. По этой причине я никак не решусь писать мемуары — даты начали бы налезать друг на друга и меняться местами, так что перспективы совсем бы перекосились и завалились на один бок.