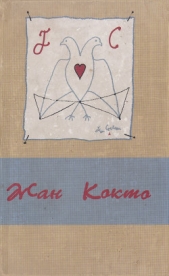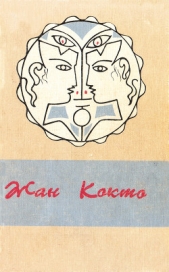Эссеистика
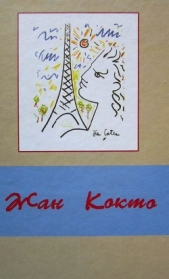
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мне пока не дано знать, как я выйду из положения. Может, придется избавиться от невидимого — а может, оно само захочет от меня избавиться. Это слишком загадочные вещи, чтобы можно было самому на что-то решиться. И без того опасно пробираться впотьмах наугад.
До двадцатилетнего возраста я полагал, что поэт может делать все, что ему вздумается. И наделал глупостей [57]. В конце этого пути меня ждал холодный душ. Потому что если невидимое решает превратить нас в свое орудие, то вынуждает учиться, а молодежь не любит это больше всего. Она хочет, чтобы все далось ей разом и немедленно. После душа в течение долгих лет судьба была ко мне безжалостна. Только возраст чему-то нас учит. Юношеская спесь мешает понять необходимость этой школы для прислуги, понять хозяина, позволяющего одно: играть Маскарилей. За любые выходки он учит нас палкой.
Я обнаружил, что мораль, которую я выработал, чтобы сделать для себя возможным этот невозможный порядок, оказалась заразительной для тех, кто со мной общался. Она шла во вред некоторым артистам, чей род занятий не терпел ожидания и полутени. Я с грустью отошел от них, чтобы не заставлять их страдать от моего ритма, который причинял им одни беды.
Вот еще одна глава отступила от намеченного пути. То же самое будет, когда меня переведут, потому что сила оригинального произведения в переводе исчезнет. Я пишу как вздумается, никого не слушая (во всяком случае, так я себе говорю), и потому часто сбиваюсь с пути. Для переводчиков тоже будет извинительным заблудиться. Им ничто не наступает на пятки, кроме профессиональной совести, которая хоть и является силой, но все же слабой, потому что очень уж многие поддаются соблазну ее ослушаться. Но на мой взгляд, ее недостаточно, если только в нас не живет другая сила, более сильная, обрекающая нас на принудительные работы.
О значимости легенд
То, что истина может быть разной, оказывается для человека неприятным сюрпризом, и всякий раз, как у нас открываются глаза на то, что мы принимали за истину, мы дивимся, насколько мало общего между тем, что мы видим, и тем, что мы об этом слышали. Наше мнение опирается на деформации в нас самих и в окружающих. Наша готовность творить мифы и верить в них невероятна. Искаженная истина мгновенно превращается для нас в бесспорность. Мы добавляем к ней кое-что от себя, и вот уже вырисовывается картина, не имеющая ничего общего с оригиналом.
Опыт учит нас остерегаться этой деформирующей способности. Не так давно в Вильфранше я поддался чарам одной иллюзии: речь шла о корабле, путешествие на котором стоит десять миллионов, и на котором плавают туристы, унизанные жемчугами. Мне устроили туда экскурсию. Я нашел обыкновенный теплоход высшего класса, похожий на любой другой, со стоимостью рейса в один миллион, что по карману не только американцам. Пассажирами оказались паломники, направляющиеся в Рим. Это были священники и достопочтенные семьи, ничем не напоминающие сказку, которую мне повсюду рассказывали.
На этом корабле я задумался о том, как я представляю себе политику по тому, что о ней говорят и пишут, и о государствах, имеющих о нас столь же смутное представление, как и мы о них. Нелегко излечиться от ложных представлений. В дороге история успевает сменить костюм, пол, рост и возраст. Она передается из уст в уста, из уха в ухо. Случается, она возвращается к нам в искаженном виде, и мы ее уже не узнаем.
Опасность в том, что преображенный образ вещей начинает жить собственной жизнью. В сплаве времени и пространства он подменяет сами вещи, живопись заслоняет оригинал, лишает его достоверности. Человек досадует, что этот оттиск уже не соответствует матрице и что надо делать новый.
Всякое действие таит в себе ускользающие от нас мотивы, они-то и определяют его своеобразие. Нас поражает именно это своеобразие, на которое каждый смотрит, не вдумываясь в него. И легенды отправляются бродить по свету. Сколько зрителей, столько легенд. Действие обретает силу произведения. Благодаря рапсодам и трубадурам, несущим его из дома в дом, оно обрастает воображаемыми подробностями. Так развивается История, и мы были бы несказанно удивлены, если бы каким-то чудом прожили минуту бок о бок с Сократом или Александром Македонским.
Возможно, что уничтожение хранившей несметные тайны Александрийской библиотеки нельзя объяснить только безумством какого-нибудь военачальника: тот военачальник оказался орудием оккультных сил, жаждавших остановить накопление знаний и вернуть человечество на исходную клеточку игрового поля.
Не проходит и дня, чтобы я лишний раз не убедился в том, что наши встречи порождают монстров. Наша собственная легенда должна была бы просветить нас относительно неточности, правящей миром, и опасностей, которые эта неточность порождает в отношениях между странами — если бы только их взаимное непонимание не было следствием беспорядка, заведенного самой природой, которая множит падаль, потому что ею питается.
Вот почему, сколько бы мы ни пытались сопротивляться легендам, они все равно нас обольщают. Они держат нас властной рукой. Приходится признать в этом отголосок вселенского ритма. Если бы в отношениях парила четкость и ясность, они были бы банальны — а это противно природе.
Когда какой-нибудь министр решает изменить порядок, то банки, не поверившие этому министру и сделавшие ставку на провал его программы, винят его в своем банкротстве, видят в нем врага, добиваются его смешения и способствуют нарушению равновесия, которое едва только наметилось. Обломки финансовых инициатив мгновенно обрастают небылицами. Золото поднимается в цене. Так что наши биржевые басни — не последние в числе прочих. На несуществующих шахтах, сахарном тростнике, нефтяных скважинах вырастают и рушатся целые состояния.
Радио позволяет нам проследить, как действует механизм рождения легенды. Голос, наделенный скоростью света, издалека быстрее долетает до нас, чем до слушателей вблизи, для которых он распространяется посредством звуковых волн.
В тот вечер, когда зазвонили колокола, возвещая освобождение Парижа, я был в Пале-Руаяле в гостях у четы Клод-Андре Пюже {251}. Мы слушали Жака Маритена, который рассказывал нам из Нью-Йорка, какой момент мы переживаем. Его картина не походила на нашу. Он идеализировал события и заставлял нас ему верить. Он был прав. Нью-Йорк без промедления заменял нашу правду исторической. То же произошло со взятием Бастилии: это событие значило меньше, чем принято считать (меньше, чем захват дворца Тюильри), так что ни о чем не подозревавший Людовик XVI охотился в это время на зайца там, где теперь находится улица Мешен, недалеко от бульвара Араго — бульвара, на котором воздвигли гильотину. А мы-то празднуем день взятия Бастилии.
К несчастью, если историческая деформация имеет тенденцию возвеличивать, то деформация, касающаяся нас, скорее склонна обесценивать и принижать. Правда, мне кажется, что с течением времени это нагромождение уничижающих неточностей сделает выше наш пьедестал. Наружу выступит особая правда. Кроме того, найдутся любознательные умы, которые займутся поиском уточняющих подробностей. Они породят новые легенды, которые наложатся на старые и разрисуют наш бюст всеми цветами радуги.
Если бы вдруг материализовалось представление каждого из наших сотрапезников о том, что мы собой представляем внутри себя, нам пришлось бы спасаться бегством. Спасает нас только неведенье. Откройся это общее для всех недоразумение — и мы лишимся почвы под ногами. Где нам тогда искать пристанище? Нам останется только распластаться ниц и лежать так до самой смерти.
И напротив, милая сердцу компания многое может исправить. Вчера мы втроем — два моих старинных друга и я — встретились после долгой разлуки. Наш образ жизни и наши творения не имеют ничего общего. И все же мы купались в атмосфере дружеского тепла, более проникновенной, более целительной, чем единство, основанное на общности привычек и схожем складе ума. Жена одного из моих друзей заметила, что согласие наше происходит от утроенного равнодушия к пересудам, от радости за успехи другого, от неспособности завидовать и от умения слушать — не меньшего, чем умение говорить.