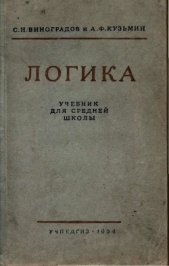Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней
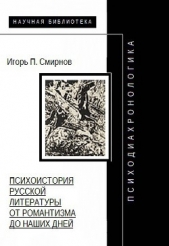
Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней читать книгу онлайн
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы. Что касается существа дела, то оно заключалось в том, чтобы установить соответствия между онтогенезом и филогенезом. Мы попытались совместить в нашей книге фрейдизм и психологию интеллекта, которую развернули Ж. Пиаже, К. Левин, Л. С. Выготский, хотя предпочтение было почти безоговорочно отдано фрейдизму.
Нашим материалом была русская литература, начиная с пушкинской эпохи (которую мы определяем как романтизм) и вплоть до современности. Иногда мы выходили за пределы литературоведения в область общей культурологии. Мы дали психо-логическую характеристику следующим периодам: романтизму (начало XIX в.), реализму (1840–80-е гг.), символизму (рубеж прошлого и нынешнего столетий), авангарду (перешедшему в середине 1920-х гг. в тоталитарную культуру), постмодернизму (возникшему в 1960-е гг.).
И. П. Смирнов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поскольку трансформация знака достаточна, согласно футуризму, для переделки референта, постольку переходящий из одного состояния в другое мир регулярно ассоциировался у Хлебникова, Маяковского и Пастернака с перекройкой, перелицовкой и сменой одежды (ср. также неконвенциональную «желтую кофту» Маяковского — практическую реализацию данной поэтической метафоры): «И вдруг / все вещи / кинулись, / раздирая голос, / скидывать лохмотья изношенных имен» [631]. Отрицая наряду с замещаемостью одной знаковой формы другой и футуристический мотив травестийного мира, обэриуты проявляли интерес к принципиально не отделяемым от предмета оболочкам, как это демонстрирует, в частности, одно из стихотворений Хармса:
3.2.2. В то время как ранний авангард, абсолютизируя замещающее, подвергал критике все предшествующее искусство, не ставя при этом под сомнение свою эстетическую правоту, обэриуты выступили также как критики собственного творчества. Замещая на исторической оси прежние формы семиотической практики, обэриуты были исполнены скепсисом относительно ценности даже собственной заместительной функции.
В статье «Маргиналии к истории русского авангарда», предпосланной «Стихотворениям» Олейникова, Л. С. Флейшман точно оценивает произведения этого поэта «…как обериутское „автопародирование“, как пародирование самого „обериутства“» (9).
Эта тенденция прослеживается и у Хармса. В «Перечне зверей» он пародирует, с одной стороны, хлебниковский «Зверинец» («Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочитанных книг», II, 2, 28), а с другой, — уже цитировавшееся стихотворение Заболоцкого «Лицо коня», дискредитируя прославлявшееся там животное:
Конь! Конь! Это ты когда-то скакал по аравийской пустыне! Это тебя поили арабы черным кофием <…> А зачем ты бежал, неразумный зверь? Куда несло тебя? Это конская удаль несла тебя безо всякого смысла. Конь, ты среди зверей самый противный, ты противен душе моей! [633]
Наконец, Хармс не пощадил в этом отрывке и собственную поэзию, где конь был воплощением свободы в движении: «…миг число высота и движения конь./Об вольности воспоем сестра…» (2,53).
Связь с текстами предшественников нередко выражается в произведениях обэриутов в форме своего рода интертекстуальной афазии — немотивированно спутанной цитаты, доводящей процесс замещения старшего текста младшим до абсурда. Такова хотя бы отсылка к «Слову о полку Игореве» («Крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспущени» [634]) в пьесе Хармса «Комедия города Петербурга» (1927): «Смотри как лань визжат телеги / бегут погонщики» (1, 89). Немотивированность осуществленной Хармсом подстановки слова «лань» в позицию слова «лебеди» будет вполне очевидной, если сравнить с этим переделку (возможно, учтенную в «Комедии города Петербурга») того же сегмента древнерусского памятника у Хлебникова, который разъединил семантические элементы, составившие в источнике метафору, и тем самым — рационалистическим образом — перевел переносный смысл в буквальный: «Ты видишь степь: скрипит телега Песня лебедя слышна» (I, 1, 120) [635].
Хармса притягивал к себе образ автора, отрекающегося от собственного замысла. В 1933 г. Хармс придумывает следующую повествовательную конструкцию:
В предисловии к книге описать какой-то сюжет, а потом сказать, что автор для своей книги выбрал совершенно другой сюжет. [636]
Ряд свойств, конституирующих типичный текст обэриутов, может быть понят как результат производившейся поэтами этой группы минимализации значимости их собственной продукции. Поэтический текст обслуживает узкий круг лиц, он пишется по следам событий, имеющих информационную ценность лишь для малого коллектива (допустим, по поводу отъезда в отпуск [637]), и адресуется не широкой аудитории, но конкретному получателю, переходя в его собственность (ср. характерный подзаголовок стихотворения Хармса «Вода и Хню» (1931): «Принадлежит Н. М. Олейникову», 3, 23) [638].
Сомнение в ценности собственного творчества пролагало путь к некоему недоверию к эстетическому в целом. Обэриутский философ Л. Липавский утверждал, что ужаса не было бы, не будь в человеке эстетического начала:
В основе ужаса лежит омерзение. Омерзение же не вызвано ничем практически важным, оно эстетическое. Таким образом, всякий ужас — эстетический, и по сути, он всегда один: ужас перед тем, что индивидуальный ритм всегда фальшив, ибо он только на поверхности, а под ним, заглушая и снимая его, безличная стихийная жизнь. [639]
3.3.1. Мир, представленный в качестве безотносительного к сознанию концептуализующего действительность человека, не поддается упорядочению с помощью логического вывода:
Самостоятельно существующие предметы, — писал Хармс в упоминавшемся трактате «Сабля», — уже не связаны законами логических рядов и скачут в пространстве, куда хотят… [640]
На деле, однако, обэриуты, строили картину алогичного, непоследовательного мира вполне последовательно — по определенным правилам. Обэриутский алогизм имеет свою внутреннюю структуру, т. е. по-своему логичен.
Если замещающее (знак) и замещаемое (обозначаемый объект) теряют свойства таковых, то всякая проводимая в тексте субституция должна аннулировать разницу данного и нового. Этим объясняется использование обэриутами таких тропов, как тавтологическое сравнение, в котором новое лишь повторяет данное (ср. выше о тавтологиях в СР). В стихотворной сценке Введенского «Куприянов и Наташа» (1931) читаем: «Восходит солнце мощное как свет» (106); ср. здесь же монолог героини:
К разбираемому приему близка мультипликация отчества в другом произведении Введенского «Очевидец и крыса», где фигурирует «Петр Иванович Иванович Иванович» (121). Эволюции в обэриутском сознании нет; человек, как утверждал Введенский, — «ровесник миру» (64).
Сходный принцип мог лежать в структурной основе обэриутского текста в целом, по ходу развертывания которого в этом случае монотонно воссоздавалась одна и та же ситуация, как это имеет место, например, в рассказе Хармса «Вываливающиеся старухи» (повествователь наблюдает падающих из окон одна за другой любопытных старух; их так много, что это зрелище надоедает ему, и он уходит с места происшествия [641]). «Вещь должна быть бесконечной», — советовал обэриутам их постоянный собеседник, Липавский [642].
Не только новое теряет в поэтике обериутов свое своеобразие относительно данного, но и данное может не иметь здесь качественной определенности в связи с новым. Эту последнюю операцию осуществляла оксюморонная Тавтология, устанавливавшая сходство между двумя взаимоисключающими элементами одного и того же класса: «Орел двукрылый, как воробей» (Хармс, 1, 52); «коровы они же быки» Введенский, 80). Переход к новому означает в таком тропе, что оно уничтожает свойство, конституирующее данное.


![Логика. Учебник для средней школы. [Издание восьмое. Утверждён Министерством просвещения РСФСР.]](/uploads/posts/books/104073/104073.jpg)