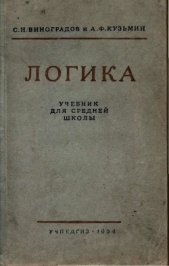Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней
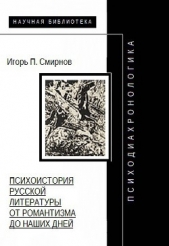
Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней читать книгу онлайн
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы. Что касается существа дела, то оно заключалось в том, чтобы установить соответствия между онтогенезом и филогенезом. Мы попытались совместить в нашей книге фрейдизм и психологию интеллекта, которую развернули Ж. Пиаже, К. Левин, Л. С. Выготский, хотя предпочтение было почти безоговорочно отдано фрейдизму.
Нашим материалом была русская литература, начиная с пушкинской эпохи (которую мы определяем как романтизм) и вплоть до современности. Иногда мы выходили за пределы литературоведения в область общей культурологии. Мы дали психо-логическую характеристику следующим периодам: романтизму (начало XIX в.), реализму (1840–80-е гг.), символизму (рубеж прошлого и нынешнего столетий), авангарду (перешедшему в середине 1920-х гг. в тоталитарную культуру), постмодернизму (возникшему в 1960-е гг.).
И. П. Смирнов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2.3.3. В своей апологии ренессансного карнавала М. М. Бахтин, сочувствовавший обэриутам (он восторгался прозой Вагинова), вменил предмету своего исследования то, что характеризовало искусство позднего авангарда, — борьбу с умом. Народные праздники дураков, а вместе с ними и впитавший их семантику роман Рабле несут в себе, как думал М. М. Бахтин, идею подлинной свободы, недоступной человеку до тех пор, пока он не признает правоту абсурда (пока он не сделает Смерть беременной, не заменит телесный верх телесным низом и т. п.).
Нужно заметить по этому поводу, что Ренессанс вовсе не критиковал ум, как это казалось М. М. Бахтину. Как раз напротив: он поносил в многочисленных трактатах нехватку интеллекта. Да, Ренессанс давал слово Глупости. «Das Narrenschiff» завершается подписью автора: «Der Narr Sebastianus Brant». В «Encomium moriae» Эразм Роттердамский отказывается от речеведения — здесь говорит только Moria. Но это не значит, что Ренессанс не доверял уму. Интеллект был для этой эпохи высшим судьей. В только что названных сочинениях Глупость разоблачает самое себя, т. е. достигает уровня метасознания, присущего лишь уму. В Ренессансе даже глупость умна, потому что для XVI в. интеллект — это поистине всё. В позднем авангарде даже ум глуп. М. М. Бахтин спроецировал на ренессансную эпоху современную ему ментальность и тем самым легитимировал последнюю в качестве укорененной в истории.
2.3.4. Почему позднеавангардистская критика авторитетного текста развернулась в среде именно ленинградских писателей? Не будет натяжкой предположить, что Ленинград, уступивший статус столицы Москве, оказался в силу этого наиболее подходящим местом для создания текстов, отрицающих свою власть над читателем. Психическое становится культурогенным тогда, когда для этого возникает предпосылка во времени (так, мазохистская культура могла сложиться лишь вслед за появлением садистской, как опровержение последней). Но характер, одерживающий свою победу над иным характером во времени, не может не испытывать страха времени, которое делает и его устраняемым с культурно-исторической сцены, которое обращает его работу во временную. Чтобы снять этот страх, лицо, включающееся в культуросозидание, нуждается в том, чтобы оправдать свою деятельность помимо истории, иными словами, он нуждается в месте, которое мотивировало бы его личное начинание как решение некоей неличной, объективно существующей, требующей поэтому коллективного подхода к себе задачи.
Поражение интеллекта, триумф глупца, идиотия были темами, на которых сосредоточивались все авангардисты второго призыва.
Набоков рисовал одно за другим лица, которые, веря в мощь собственного ума, были не в состоянии опознать то, что на деле происходит вокруг них: герой «Камеры обскура», кинопродюсер, не видит, что его жена изменяет ему; герой «Отчаяния» не замечает того, что человек, принятый им за двойника, вовсе на него не похож. Гениальность для Набокова идиотична — таково изображение шахматного таланта в «Защите Лужина».
Интеллектуал обречен на исчезновение в мире, где господствуют спортсмены и энергичные функционеры, воплощающие собой чужую волю, — вот вывод из романа Олеши «Зависть» [620].
Умницу Полуярова в «Пушторге» доводит до самоубийства дурак Кроль (аттестуя его, Сельвинский развертывает в своем романе в стихах подробную — четырехсоставную — классификацию глупости [621], интересуясь, вообще говоря, тем же, что волновало его современников: К. Левина и Р. Музиля, Л. С. Выготского и М. М. Бахтина).
Мазохистский авангард-2 в отличие от садистского сомневался, какие бы формы он ни принимал, в том, что субъектное обладает неким позитивным содержанием (среди прочего под вопрос были поставлены и умственные способности субъекта). Однако только в Ленинграде русский авангард в его позднем варианте сделал глупость свойством не изображаемого, но изображающего. Критика субъектного стала здесь самокритикой автора. Город, лишенный власти, авторизовал свою безавторитетность в обэриутском тексте.
3. Ничто и нечто
3.1.1. Интровертированный мазохизм обэриутского толка довел концепции знака и значения, выдвинутые футуризмом, до самоаннулирования.
Семиотическое своеобразие художественной системы, которая образовалась после кризиса символизма, в особенности ее футуристических фракций, во многом определялось тем, что знак был интерпретирован здесь как не нуждающийся в обозначаемом объекте, как сам себе референт. Под этим углом зрения художественный знак — это либо самодостаточное «слово как таковое», чье содержание сводится к выражению, либо «вещь», артефакт, имеющий утилитарное (агитационное, рекламное и тому подобное) назначение. Для садистского мышления, чьим началом является реакция ребенка на случающийся с ним выход из симбиоза, то, что замещает утрачиваемый объект, обладает абсолютной ценностью.
В результате предпринятой группой Обэриу ревизии фундаментальных футуристических представлений у знака была отнята его способность иметь какое бы то ни было значение. Знак либо отправляет нас к безреферентному миру, к ничто, либо нам указывается на то, что мир есть нечто лишь тогда, когда он ничем не субституирован. Интровертированный мазохист, убежденный в пустоте авторефлексии, т. е. самозамещения, объективирует этот психический процесс, представляя бессмысленной субституцию как таковую. Объединение реального искусства наследовало раннему авангарду как течению, отрицавшему один из двух компонентов субституции — субституируемое, перенеся негацию на субституирующее.
3.1.2. Раз обозначенное есть ничто [622], становится понятным, почему Олейников создает стихотворный апофеоз нулю: «О вы, нули мои и нолики, Я вас любил, я вас люблю» [623]. К этому же нумерическому символу обращается Введенский: «и море ничего не значит, / и море тоже круглый нуль». («Кончина моря», 1930; 70). В поэзии Введенского конца 1920–30-х гг. человеку предлагается допустить полное отсутствие окружающей его действительности («Представим все отсутствие земли, / представим вновь отсутствие все тел…», 49), а демиург наказывается за напрасно совершенный им акт творения («в несущественном открыв / существующее зря / там томился в клетке Бог», 54). Мир, бывший съедобным (инкорпорируемым) для садоавангарда, становится у обэриутов разлагающимся, непригодным к потреблению — ср. у Введенского (100):
Одна из излюбленных тем поэзии обэриутов — исчезновение моделирующих мир категорий, например, категории времени, которое либо уничтожается людьми (стихотворение Заболоцкого «Время» (1933); тот же мотив — в «Кругом возможно Бог» Введенского (1931)), либо не выступает для них как схватываемое, ускользает от них (стихотворение Хармса «Третья цисфинитная логика бесконечного небытия» (1930)):


![Логика. Учебник для средней школы. [Издание восьмое. Утверждён Министерством просвещения РСФСР.]](/uploads/posts/books/104073/104073.jpg)