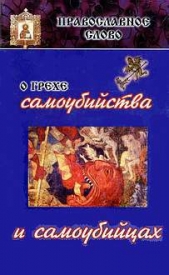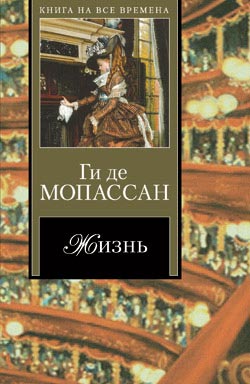Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали

Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали читать книгу онлайн
Эта книга — серия портретов писателей советской поры: Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Александра Фадеева и Юрия Олеши, Сергея Михалкова и Александра Твардовского, Валентина Катаева и Николая Эрдмана. Портреты — разные: есть обстоятельно писанные маслом, есть летучие графические зарисовки, есть и то, что можно счесть шаржем. И в то же время это — коллективный портрет, чьи черты дают представление о некоем общем явлении, именуемом «советский писатель». Или — «советский интеллигент». В книге рассмотрены сугубо отдельные, индивидуальные судьбы. И в то же время — судьба, общая для многих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Был. Промолчал четыре часа».
Конечно, дело было в характере, действительно пораженном меланхолией; даже в душевной болезни, которую сам Зощенко упорно лечил, а, возможно, скорее усугублял с помощью самолично же вырабатываемых теорий и рецептов. Ими он охотно делился с окружающими и украшал, а, опять же возможно, скорее портил свои книги.
Но была и еще одна неизбывная драма.
У него есть рассказ о том, как актер-любитель выходит на сцену, встречаемый приветствиями знакомцев: «А, — говорят, — Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы…» И, выйдя, играет купца, которого по сюжету грабят разбойники, — как вдруг обнаруживает, что грабят не понарошку. Тянут его настоящий, кровный кошелек.
«Вынули у меня бумажник (восемнадцать червонцев) и к часам прутся.
Я кричу не своим голосом:
— Караул, дескать, граждане, всерьез грабят.
А от этого полный эффект получается. Публика-дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит:
— Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их, дьяволов, по башкам.
…Режиссер тут с кулис высовывается.
— Молодец, — говорит, — Вася. Чудно, говорит, рольку ведешь. Давай дальше».
И т. д. Чем истошнее он кричит про грабеж, тем в больший восторг приходит публика.
Дура? Нет, просто — публика.
Не слепок ли это с зощенковской натуральной судьбы?
Он, писавший (кричавший) «всерьез», всю жизнь имел ложную репутацию — «славного, веселого Миши», как обращались к нему в письмах поклонники. Так что, когда в 1946 году Жданов обозвал его «пошляком и подонком от литературы»…
Впрочем, задержимся. Не побрезгуем процитировать еще кое-что из тезисов ждановского доклада:
«Его произведения — рвотный порошок.
…Возмутительная хулиганская повесть „Перед восходом солнца“.
Это отщепенец и выродок…
…Пакостник, мусорщик, слякоть.
…Человек без морали, без совести».
Процитировав, двинемся дальше. Итак, когда сталинский подручный по прямому его указанию обрушил на голову благородного и щепетильного Зощенко всю эту мерзость, это был всего лишь итог того, чтó понаприписывали за долгие годы «весельчаку» и «мещанскому развлекателю». Первым делом — тяжелые на руку неприятели, но и поклонники тут приложили свои ладоши, всегда готовые аплодировать. Не робей, дескать, Миша! Дуй до горы!..
Когда начали реабилитацию оболганного писателя, его — из лучших, естественно, побуждений — повысили в чине. Назвали сатириком. Для нас ведь традиционно сатира — это юмор, дослужившийся до генеральских погон. Но погоны — того самого ведомства, по которому Зощенко не служил.
Репутация может сложиться не совсем справедливо или вовсе не справедливо из-за вмешательства внешних сил — из-за смерти, болезни. Илья Эренбург, сам человек заслуженной, выслуженной репутации, сожалел о судьбе Ильи Ильфа:
«Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: „Репертуар исчерпан“ или „Ягода сходит“. А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: „Хорошо бы написать один рассказ вроде „Крыжовника“ или „Душечки““…».
Все правда. Репертуар сатирика-юмориста в самом деле исчерпывался и исчерпался: достаточно вспомнить, чтó писал после смерти Ильфа его небездарный соавтор Евгений Петров. Лучшее, что вспомним, — киносценарии «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится».
У Зощенко ягода не сходила — пока по ягодным местам не прошелся бульдозер власти. И недостатка внимания он не испытывал. Непонимание — вот беда и драма.
Он не юморист; его юмор — это, скорей, результат побочный. И не сатирик, пишущий зло, — хотя было, от чего злиться. Он прежде всего, как всякий большой писатель, знаток и исследователь человеческой души. Испытатель ее — на растяжение и разрыв, на податливость и прочность. Просто способы этого испытания у него — свои, глубоко индивидуальные.
Возьмем на пробу отрывок его текста — не пугайтесь, не для литературоведческого анализа (и слово-то медицински-неаппетитное: «анализ»). Всего лишь прочтем и подумаем.
«Которые были в этом вагоне, те почти все в Новороссийск ехали.
И едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком.
У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет.
Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе.
Вот она к нему и едет.
И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск.
Едет она к мужу в Новороссийск. А у ей малютка на руках очень такой звонкий. И орет, и орет, все равно как оглашенный. Он, видать, хворает… Вот он и орет.
…И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск, и, как назло, в пути с ним случается болезнь».
Почему смешно? Потому что косноязычно?
Так — и не так.
Настоящее косноязычие, не стремящееся никого рассмешить, остающееся на рядовом бытовом уровне, — вот оно:
«Я спрашиваю: „…как это понять? Вы же нацист“.
Нет, — говорит, — я не нацист. Я против нацистов, поэтому я перешел к вам».
Я говорю: «Ведь в эсэсовские части берут людей из нацистов». (Я считал тогда, что только нацистов берут туда.)
«Нет, — говорит, — это раньше, в первый и второй год войны так было. Сейчас берут всех. Меня по росту и внешнему виду взяли. Так я и попал в эсэсовские войска. А я против нацизма. Я не знаю, насколько вы можете мне поверить. Я немец, но родители мои из Эльзаса. Мы воспитывались на французской культуре, и поэтому мы не такие немцы, как эти нацисты. Родители мои против нацизма, и я так воспитан. Я принял решение для себя и убежал, чтобы не участвовать в этом наступлении, не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера. Поэтому я перебежал».
Откуда это?
Первая догадка: из «Партизанских рассказов» самого Зощенко — из тех, которые он писал отчасти ради того, чтобы доказать свою актуальность и свой советский патриотизм, реабилитировав себя в глазах власти.
Да, это, пожалуй, их уровень — там все, в том числе пленные немцы, говорят неповторимым (казалось) зощенковским языком, но, конечно, уже не сгущенным до степени, явленной выше. Пожалуй, это и зощенковский стилистический винегрет. Сравним только: «…не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера» — и сразу из рассказа тридцатых годов: «Я, говорит, не дозволю иметь такое жульничество под моим флагом».
Но это не «Партизанские рассказы». Это не Зощенко. Вообще — не художественная словесность. Это живая речь Никиты Сергеевича Хрущева — из его мемуаров, записанных на диктофон.
Надо ли объяснять, что опальный в ту пору — и потому лишь разговорившийся — бывший глава страны, уж конечно, не подражал сказовой манере Михаила Михайловича Зощенко? Это просто мы с вами, читая подобное, не можем уйти от сравнения с языком, раз навсегда обозначенным как «зощенковский». Когда нетвердо-упрямая речь рассказчика пробирается вперед с оглядчивой неуверенностью, обтаптывая наиболее приметные вешки, поминутно задерживаясь для оговорок, повторов и уточнений:
«Вы же нацист… Нет, — говорит, — я не нацист. Я против нацистов… а я против нацизма… Родители мои против нацизма…»
Или:
«И вот она едет к мужу… Едет она к мужу в Новороссийск… Они едут, конечно, в Новороссийск…»
Но в «косноязычии» Зощенко — своя система. Своя динамика. Свой сюжет. Своя цель — потому «косноязычие» заключаем в кавычки.
Всмотримся. Сперва нам сообщили место действия — вагон. Затем главное действующее лицо — бабешечку. Далее появляется страдательный персонаж — младенец, без которого действие не завяжется. Он притом незаметно вытесняет свою мамашу, оказываясь в центре повествования: «И вот едет эта малютка со своей мамашей…» Это как в детской прозе Бориса Житкова: «Вошла большая красивая собака и с ней тетя на цепочке».
Затем узнаем о цели путешествия. Об обстановке. И т. д.