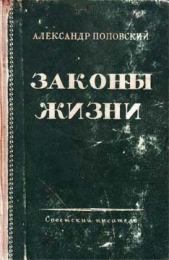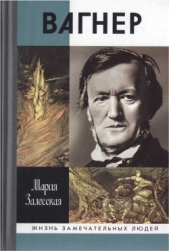Избранные работы

Избранные работы читать книгу онлайн
В сборник входят наиболее значительные работы Р. Вагнера («Искусство и революция», «Опера и драма», «Произведение искусства будущего» и др.), которые позволяют понять не только эстетические взгляды композитора и его вкусовые пристрастия, но и социальную позицию Вагнера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так как перенять тут можно было только внешность, ибо содержание этих редкостных черт в действительности оставалось невыразимой тайной композитора, то вслед за тем явилась необходимость приискать еще и какое-нибудь содержание, которое, несмотря на свою общедоступность, дало бы возможность применить и эти черты, указывающие на особенное и индивидуальное.
Такой предмет можно было, конечно, найти только вне музыки, а для чистой инструментальной музыки его могла дать опять-таки лишь фантазия. Намек на музыкальное изображение предмета, взятого из природы или человеческой жизни, был дан слушателям как программа, и фантазии предоставлялось согласно с этим объяснять все те музыкальные странности, которые теперь в необузданном произволе могли дойти до пестрой, хаотической путаницы.
Немецкие музыканты были по духу достаточно близки к Бетховену, чтобы остаться в стороне от этого странного направления, которое вытекло из ложного понимания композитора. Они старались спастись от результатов этой манеры выражения тем, что смягчали ее крайние стороны, и, переплетя старую манеру выражения с новой, выработали из этой художественной смеси общий, так сказать, абстрактный стиль, который долго давал возможность прилично и благопристойно музицировать без опасения серьезной помехи со стороны сильных индивидуальностей. Если Бетховен в большинстве случаев производит на нас впечатление человека, который хочет нам что-то сказать, чего он, однако, не может ясно выразить, то, наоборот, его современные последователи кажутся людьми, которые удивительно обстоятельным образом сообщают нам о том, что сказать им решительно нечего.
В пожирающем всякие направления искусства Париже жил некий француз необычайного музыкального ума, доведший до высшей точки развития то направление, о котором говорится выше. Гектор Берлиоз является непосредственным и наиболее энергичным отростком Бетховена в ту сторону, от которой Бетховен уклонялся каждый раз, когда — как я раньше определил — он от эскизов переходил к настоящим картинам. Часто поверхностно брошенные, смелые и яркие росчерки пера, в которых выражались попытки Бетховена отыскать новые средства выражения, попадали в руки его жадного ученика как единственное наследие великого художника. Быть может, то было догадкой, что наиболее законченная картина Бетховена — его последняя симфония есть вообще последнее произведение в этом роде; догадкой, которую Берлиозу, тоже захотевшему создавать великие произведения, могло внушить его эгоистическое желание отыскать в этих картинах сущность бетховенского стремления, хотя стремление это, право же, имело целью вовсе не удовлетворение фантастических прихотей. Ясно одно — что художественное воодушевление Берлиоза вызвано было той влюбленностью, с которой он рассматривал эти причудливо завитые росчерки. Ужас и восторг охватывали его при взгляде на загадочные, волшебные письмена, в которые композитор облек восторг и ужас, чтобы выразить тайну, которую он никогда не мог выразить в музыке и которую тщетно пытался выразить одною ею. При этом зрелище у наблюдателя кружилась голова; пред его глазами несся пестрый хаотический танец ведьм, мутивший его зрение; ослепленный, он думал, что видит живые, телесные образы там, где в действительности только призраки играли его фантазией. Это вызванное призраками головокружение и было вдохновением Берлиоза. Когда он приходил в себя, то со слабостью человека, отравленного опиумом, замечал вокруг лишь холодную пустоту, которую старался оживить, вновь вызывая в себе лихорадочные сновидения; это ему удавалось только путем трудной, мучительной дрессировки и столь же трудного и мучительного использования всей своей музыкальной утвари.
В стремлении воспроизвести редкие картины возбужденной фантазии, чтобы ясно и осязательно представить их своей неверующей парижской свите, Берлиоз довел свой огромный музыкальный ум до невиданной доселе технической способности.
То, что он хотел сказать людям, было так странно, так необычно и неестественно, что нельзя было этого выразить простым человеческим органом — ведь все это было совершенно нечеловеческим.
Мы знаем теперь те сверхъестественные чудеса, при помощи которых некогда священники вводили в обман доверчивых людей, чтобы заставить их уверовать, что им является бог. Всегда эти чудеса устраивала одна только механика. Таки тут все неестественное при помощи чудес механики преподносилось смущенной публике как сверхъестественное, и оркестр Берлиоза есть поистине такое чудо.
Берлиоз довел развитие этого механизма до прямо изумительной высоты и глубины, и если мы изобретателей современной индустриальной механики признаем благодетелями государства, то Берлиоза должно прославлять как истинного спасителя нашего музыкального мира, ибо он дал музыкантам возможность путем употребления неслыханно разнообразных, чисто механических средств производить сильнейшее впечатление хотя бы самым нехудожественным и ничтожным содержанием.
Слава мастера механики, наверное, не прельщала Берлиоза в начале его художественного пути — в нем жил истинно художественный порыв; и этот порыв был жгучий, всепоглощающий. То, что в стремлении дать удовлетворение этому порыву он достиг высшей точки упомянутого выше направления при посредстве нездорового, нечеловеческого элемента, благодаря чему как художник он должен был погрязнуть в механике, а как сверхъестественный, фантастический мечтатель — потонуть во всепоглощающем материализме, — это служит предостерегающим примером, явлением, тем более заслуживающим глубокого сочувствия, что Берлиоз и в настоящую минуту снедаем истинно художественными стремлениями, хоть погребен уже навек под грудой своих машин.
Он является трагической жертвой направления, успехи которого другими эксплуатировались бесчувственно, с бесстыдством и равнодушной развязностью. Опера, к которой мы теперь возвращаемся, проглотила и неоромантику Берлиоза, как жирную, вкусную устрицу, и это удовольствие снова придало ей упитанный, самодовольный вид.
Благодаря современному оркестру опера получила из области абсолютной музыки огромный прирост средств разнообразнейшего выражения, которые теперь в воображении оперного композитора должны были стать «драматическими». Раньше оркестр был не чем иным, как гармоническим и ритмическим дополнением оперной мелодии. Как бы он ни был богато и даже роскошно наделен в этом отношении, он все-таки оставался подчиненным мелодии, и там, где оркестр принимал непосредственное участие в ее исполнении, это делалось только для того, чтобы заставить безусловную владычицу — мелодию — посредством разукрашивания ее свиты казаться еще более блестящей и гордой. Все относящееся к необходимому сопровождению драматического действия было заимствовано для оркестра из области балета и пантомимы, в которых мелодическое выражение развилось из народного танца совершенно по тем же законам, как оперная ария развилась из народного напева. Этот напев был обязан своим украшением и развитием произвольным симпатиям певца, а впоследствии изобретательским попыткам композитора; тем же самым балетная мелодия обязана танцору и пантомимисту. В обоих, однако, невозможно было подрубить корень их сущности, ибо, находясь вне оперной почвы, он оставался неизвестным и недоступным для факторов оперы. Эта сущность выражалась в резко очерченной мелизматической и ритмической форме, внешность которой композиторы нарочно видоизменяли; они не могли, однако, никак сгладить ее линий без того, чтобы неудержимо не расплыться в неопределеннейшем хаосе выражения. Таким образом танцевальная мелодия овладела самой пантомимой; пантомимист не мог выразить жестами ничего, кроме того, что в состоянии была сопровождать соответствующая танцевальная мелодия, связанная строгими ритмическими и мелизматическими условностями. Он обязан был строго соразмерять со способностью музыки свои движения и жесты, а следовательно, и то, что ими выражалось; должен был шаблонно и стереотипно сам приспособлять свои средства точно так, как в опере певцу приходилось умерять свои драматические силы сообразно со средствами стереотипного драматического выражения арии; он не мог проявлять своей собственной драматической силы, которой в действительности принадлежит сила закона.