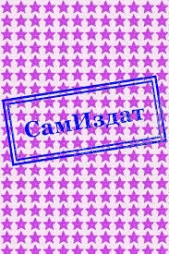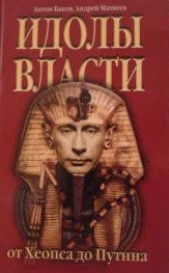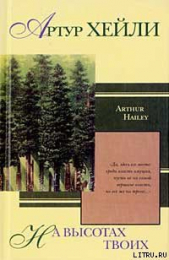Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Близкие и равные обитатели поэтического дома — тома книг, почтительно переставляемые благодарным читателем. Восторженную тишь источают ниши книжных полок. Именно «лары»-книги объясняют связь «ожерелий жира» с «жиром чайки» и гутенберговской печатью: греч. laros — это «чайка». В стихотворении 1910 года Мандельштам описывает чтение книги как маринистическую картину, где «морская гостья»-чайка шелестит в полете крыльями, как страницами, волны передают приливы и отливы строк и ритма чтения, а лодка раскрывает парус подобно тому, как открывается книга:
Книга как бабочка и мусульманское божество Корана описана в одном из «восьмистиший»:
Анатомию этого стихотворения подчеркивает почти утраченный ныне процесс обязательного разрезания страниц тома (греч. anatome — «рассечение»). Дейксис задан обращением «татарского мурзы» русской поэзии Державина к душе в стихотворении «Ласточка»: «Душа моя! Гостья ты мира: / Не ты ли перната сия?». Раскрытая книга подобна бабочке, ее усы — отброшенные вверх «шелковинки»-закладки. Бурнус — обложка. Она живет и умирает сама, открываясь и закрываясь, и вовлекает в этот процесс читателей. Сияние разверзнутой бездны. И в этой устрашающей книжности опять подспудно сошлись имена Державина и Хлебникова, как и в центральном образе мандельштамовской Библиотеки — в его «Грифельной оде». «Ода» по-гейневски воспевает «записную книжку» человечества — Библию.
Первоисточником человеческой культуры, родной крепью высится вертикальный, естественно раскрытый срез горы. Премудрость этого глобального образования вобрала в себя все истоки людских вер, подобно Айя-Софии, храму, впитавшему эллинские, римские, христианские и мусульманские каменные основания. Грандиозная книга-гора представляет изумленному человеку исходный природно-цивилизационный конгломерат. Текстура прослоек откликается геологической, музыкальной, астрономической, метео- и архитектурной упоминательной клавиатурой, что и составляет позвоночный хребет «Грифельной оды», ее многовековой окликательный мануал. Нелинейная семантика книжных строк, как и слоистость каменных обнажений горных пород, выявляет структурную неоднородность — тектонические сдвиги, разрывы и метаморфизм. Мы сталкиваемся со своеобразным языковым каротажем. Стратиграфию горы в поэзии выражает простой и понятный знак — %. Война, смерть неимоверно повышают количество «кремневых гор осечек»; «страх» и «сдвиг» увеличивают процент павших. У Хлебникова:
«Грифельная ода» — надгробный монумент, стелла и песнь в память всех выбывших из строя, разорвавших цепь. Библейская вертикаль «кремнистого пути» со стыками звезд, следами подков, знаками разрыва колец, язвами и царапинами лета в «Египетской марке» переходит в книжную горизонталь Камня-города: «Он [Парнок] получил обратно все улицы и площади Петербурга — в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады. Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар, что будет, будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами. Он ждал, покуда накапливались таборы извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколенья, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой» (II, 490–491). Этот кенотаф восходит к стихам раннего Маяковского: «А я — / в читальне улиц — / так часто перелистывал гроба том» (I, 48). У обоих поэтов город — некрополь и раскрытая книга. Как и у Маяковского, книжный том вырастает до размеров каменной плиты. Франц. tombe — это «надгробный камень», а также «гроб», «могила».
Это многоязыковое кружение, перепутывание книг и имен (переплет!) и составляют те «веселых клерков каламбуры», которых не понимает мальчик мандельштамовского стихотворения «Домби и сын»: