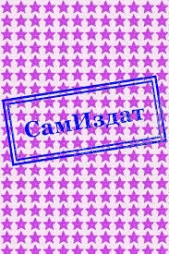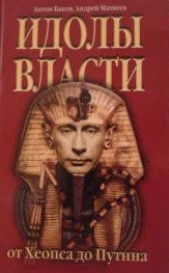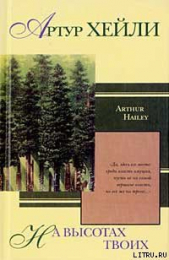Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Догутенберговская стадия расцвеченной рукописной книги, ее младенчество и детство составляют содержание второй строфы стихотворения о кумире-книге. Все богатство оправленных в кожу, серебро, драгоценные камни и иллюминированных фолиантов, раскрашенных миниатюр, виньеток, заставок и концовок, передано яркостью павлиньего хвоста, гастрономической роскошью «индийской радуги» старинного державинского застолья-пира и, наконец, той самой кошенилью, которой кормить можно только книгу. Именно это насекомое, кошениль, составляло предмет научных интересов Б. Кузина в Армении, о чем был хорошо осведомлен Мандельштам: «Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили — мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок» (III, 189). «Давали молока из розоватых глин…» — и цвет бумаги, и звук голоса, так как нем. Ton означает и «звук, тон», и «глина». Поэтому сами губы становятся глиняными (и это не просто эмблема хрупкости лирического голоса):
Начиная с ранних стихов и через все творчество проходит загадка бытия Книги. Сам поэт, как известно, из двух названий для своего первого сборника — «Раковина» или «Камень» — выбрал последнее. Раковина — это полая книжная обложка, субстанциональная «ложь». Она еще без жемчужины, ночь постранично наполняет ее содержанием:
Еще не кумир внутри горы, но уже пещера, в которую нужно войти и оживить, прообраз звучащего, устного повествования, вливающегося в раковину уха. Из двух видов слова — устного и письменного — Мандельштам, поколебавшись, избирает закрепленное на камне. Камень — такой дом (и том), на котором вырезаны письмена. Это и керамические (глиняные) таблички с клинописью, над расшифровкой которых трудится друг Мандельштама Владимир Шилейко. И надгробья всех времен и народов. И самое дорогое — скрижали Завета, «декалог», ниспосланный Иеговой пророку Моисею. Но юный восемнадцатилетний поэт уже противится пророческой участи:
Первые две строфы — антитеза, сопротивление, то, чему не хочет подражать поэт и чего он страшится. Третья и четвертая строфы содержат желаемую программу действий, манифест (правда, никогда не публиковавшийся автором), вполне совпадающий с центральным символом «Утра акмеизма» — камнем. Поэт начинает свой путь и не хочет остаться безымянным, утонуть, он должен обрести голос. Но почему отвергнут Моисей, чьи деяния самим автором приравнены к жертве Христа? Ведь косноязычный пророк и автор Пятикнижья оставил после себя Книгу книг, прошедшую сквозь века? Потому что горняя высь, космическая пустота внушают поэту страх: «Я чувствую непобедимый страх / В присутствии таинственных высот…» (I, 74).
В его одомашненном поэтологическом обиходе в эту устрашающую высотность будут вовлечены на равных правах Ветхий и Новый Завет, «хаос иудейский» и рабское, несвободное понимание Христа: «Христианское искусство всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях „подражание Христу“, вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. Христианское искусство свободно. Это в полном смысле этого слова „искусство ради искусства“. Никакая необходимость, даже самая высокая, не омрачает его светлой внутренней свободы, ибо прообраз его, то, чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. Итак, не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу — вот краеугольный камень христианской эстетики. Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа!» (I, 202).
Поль Валери говорил о Малларме: «Он думал, что мир был создан ради прекрасной книги и что абсолютная поэзия есть завершение его». Такой пантекстуализм и культ Книги свойственен и русским поэтам. На протяжении отпущенных ему тридцати лет стихотворства Мандельштам с невероятной последовательностью создает свой нерукотворный памятник — Книгу.
Хлебников предрекал уход старых великих Книг человечества, уступающих место новой:
Новый вольный человек (личность, «Я», «Аз») освобождается из цепей рабства жертвоприношением, которое делают сами Книги, указуя путь земному творцу, огненному Прометею, выходящему из уз очеловеченной мировой азбуки. Мандельштаму присуще иное горение, но его метафоры не менее внушительны. Как и у Хлебникова, у него книги-кумиры выступают в обличье всех мировых религий. Читателю предъявляется лишь одно требование — он должен быть свободен. Это та самая «полная свобода», о которой говорил Мандельштаму Пастернак, добавляя, что она была присуща и Хлебникову, а сам он к ней не готов. И Хлебников, и Мандельштам отстаивают единство книги. Поль Бурже писал: «Стиль декаданс начинается там, где единство книги распадается, чтобы уступить место независимости страницы, где страница распадается, чтобы уступить место независимости фразы, а фраза — чтобы уступить место независимости слова».
Самая ранняя, 1909 года, ипостась книжных кумиров Мандельштама — лары, древнеримские божества, охранявшие домашний очаг и семью: