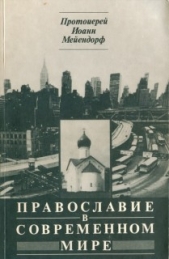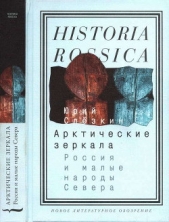Эра Меркурия. Евреи в современном мире

Эра Меркурия. Евреи в современном мире читать книгу онлайн
«Современная эра - еврейская эра, а двадцатый век - еврейский век», утверждает автор. Книга известного историка, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина объясняет причины поразительного успеха и уникальной уязвимости евреев в современном мире; рассматривает марксизм и фрейдизм как попытки решения еврейского вопроса; анализирует превращение геноцида евреев во всемирный символ абсолютного зла; прослеживает историю еврейской революции в недрах революции русской и описывает три паломничества, последовавших за распадом российской черты оседлости и олицетворяющих три пути развития современного общества: в Соединенные Штаты, оплот бескомпромиссного либерализма; в Палестину, Землю Обетованную радикального национализма; в города СССР, свободные и от либерализма, и от племенной исключительности. Значительная часть книги посвящена советскому выбору - выбору, который начался с наибольшего успеха и обернулся наибольшим разочарованием.
Эксцентричная книга, которая приводит в восхищение и порой в сладостную ярость... Почти на каждой странице — поразительные факты и интерпретации... Книга Слёзкина — одна из самых оригинальных и интеллектуально провоцирующих книг о еврейской культуре за многие годы.
Publishers Weekly
Найти бесстрашную, оригинальную, крупномасштабную историческую работу в наш век узкой специализации - не просто замечательное событие. Это почти сенсация. Именно такова книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина...
Los Angeles Times
Важная, провоцирующая и блестящая книга... Она поражает невероятной эрудицией, литературным изяществом и, самое главное, большими идеями.
The Jewish Journal (Los Angeles)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подобно первому поколению советских людей и истинно верующим из числа их американских кузенов, первое поколение сабр жило в мире, где политика была «метафорой всего сущего». Кибуц, мошав, школа, молодежное движение и вооруженные силы были взаимосвязаны, взаимозависимы и, в конечном счете, подчинены политическому руководству и делу сионистского искупления. Саб-ры любили своих учителей, которые были пророками, и преклонялись перед своими командирами, которые были учителями. В детских садах были «уголки Еврейского национального фонда», аналогичные советским «красным уголкам», а в Палмахе (элитном подразделении еврейской военной организации Хагана) были политические офицеры, аналогичные советским комиссарам. Оба поколения жили в обстановке сплошного и в основном самопроизвольного политического единомыслия, оба выросли среди прижизненно канонизированных святых и свежих могил павших героев, оба осушали болота и заставляли пустыни цвести и оба боролись за слияние личного и общественного в одной героической эпопее вновь обретенного вневременья. Как провозгласил в 1919 году Давид Бен-Гурион, «в жизни трудящихся Земли Израиля нет почвы для различий между интересами личности и интересами нации». И как в 1941 году писал в своем дневнике один молодой сабра, «память о событиях личного свойства» начала затмевать в хронике его жизни «национальный исторический фон»:
Теперь я попробую восстановить равновесие и начну писать о добровольной службе в армии и о тех, кто от нее уклоняется, о смерти Усышкина и смерти Брандайса, о войне в России... Почему бы мне и не писать обо всем этом в моем дневнике? Из этих фактов складывается история, их будут помнить всегда, между тем как личные мелочи выветрятся и будут преданы забвению. Утратятся и исчезнут.
Йишув не был Советским Союзом. Он был маленьким, племенным и беззастенчиво провинциальным. Его единство было полностью добровольным (дезертиров презирали, но не удерживали), а его воинственность направлялась вовне, на легко определяемых неевреев. Он был мессианским, но и одним из многих, уникальным, но и «нормальным» (то есть соответствующим националистическому стандарту, который и сам был в значительной степени библейским). Как писал в 1937 году один из учеников Герцлийской гимназии, «наш народ породил великих, жаждавших свободы героев; из этих героев вышли пророки, предрекшие мир всеобщей честности и справедливости, потому что наш народ — героический и благородный народ; суровая и полная страданий жизнь в Изгнании унизила его, но ему еще предстоит нести свет другим народам».
И сионизм, и советский коммунизм представляли собой апокалиптические восстания против капитализма, «обывательщины» и «химерической национальности». Однако сионизм принадлежал к интегрально-националистическому крылу революции против современности и имел с ним много общего в сфере риторики и эстетики. В 1930-е годы дети Хавы чаще, чем их советские братья и сестры, ходили в походы, занимались физкультурой и пели вокруг костра, больше говорили о здоровом (мужском) теле, более страстно соединялись с природой (в круглогодичной дачной пасторали) и проводили куда больше времени, обучаясь стрельбе. Большевики старались создать идеальное сочетание меркурианства с аполлонизмом; сионисты старались превратить меркурианцев в аполлонийцев. Большевики стирали различия между городом и деревней, строя города; сионисты преодолевали урбанизм диаспоры, строя деревни. Дети Годл хотели стать поэтами, учеными и инженерами; дети Хавы хотели стать вооруженными фермерами и «еврейскими военачальниками». Дети Бейлки хотели стать детьми кого-нибудь другого — предпочтительно Годл.
Если бы Перчик, муж Годл, и в самом деле стал народным комиссаром, директором издательства, сотрудником карающих органов или видным старым большевиком, процветание его семьи и счастливое детство его детей, скорее всего, закончилось бы во время так называемого Большого террора 1937—1938 годов. Во имя достижения идеала равенства советский социализм стремился к полной прозрачности личности — окончательному совпадению жизни каждого человека с историей мировой революции (и, в конечном счете, с историей жизни Сталина, представленной в «Кратком курсе истории ВКП(б)»). Одолев вооруженных врагов и политических противников, уничтожив «эксплуататорские классы», заменив (или «перековав») «буржуазных спецов», подавив внутренних раскольников, национализировав земледельцев и скотоводов и построив к 1934 году «основы социализма», советская власть осталась без распознаваемых невооруженным глазом классовых врагов. Однако долгожданной чистоты все не было — и потому, провозгласив победу над прошлым, режим обратил оружие против себя самого. Изнывающие под недреманным оком Сталина, преданные безграничному насилию, терзаемые демонами предательства и разложения, обуянные безумием самобичевания и взаимной подозрительности, верховные жрецы революции принесли себя в жертву социализму и его земному пророку. Как Бухарин писал Сталину из тюрьмы, есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки... Без меня здесь не могли обойтись. Одних обезвреживают так-то, других — по-другому, третьих — по-третьему. Страховочным моментом является и то, что люди неизбежно говорят друг о друге и навсегда поселяют друг к другу недоверие...
Господи, если бы был такой инструмент, чтобы ты видел всю мою расклеванную и истерзанную душу! Если б ты видел, как я внутренне к тебе привязан... Теперь нет ангела, который отвел бы меч Аврамов, и роковые судьбы осуществятся!..
Я готовлюсь душевно к уходу от земной юдоли, и нет во мне по отношению ко всем вам и к партии, и ко всему делу — ничего, кроме великой, безграничной любви...
Прошу у тебя последнего прощения (душевного, а не другого).
А Ежов, руководивший казнью Бухарина, заявил накануне своей собственной: Я в течение 25 лет своей партийной жизни честно боролся с врагами и уничтожал врагов... Я почистил 14 000 чекистов. Но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил... Кругом меня были враги народа, мои враги... Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах.
Революция наконец добралась до собственных детей — или, вернее, собственных родителей, поскольку Годл и в особенности Перчик имели гораздо больше шансов быть арестованными, чем юные представители «первого советского поколения». Революция оказалась такой же отцеубийственной, как сами революционеры, и никого это не озадачило больше, чем самих революционеров. Надежда Улановская, вернувшаяся из Соединенных Штатов незадолго до Большого террора, вспоминала:
Когда при очередном аресте я недоумевала: «Что же делается? Почему? За что?» — отец [т.е. ее муж, агент ГРУ] спокойно ответил: «Что ты так волнуешься? Когда я рассказывал, как расстреливали белых офицеров в Крыму, — не волновалась? Когда буржуазию, кулаков уничтожали — ты оправдывала? А как дошло дело до нас: Как, почему? А это с самого начала так было». Я ему резонно: «Я понимаю, что когда людей убивают — это ужасно, но раньше мы знали, что это нужно для революции. Но тут же не дается никаких объяснений!» И мы стали искать в прошлом — когда же началось?93
Улановские искали в прошлом, сидя у себя дома; большинство их друзей и коллег занималось этим в кабинетах следователей. Каждое признание было (сочиненной в соавторстве) попыткой найти истоки предательства, каждое публичное выступление — комментарием на тему о происхождении совершенства. Как сказал Бабель на Первом съезде советских писателей в 1934 году, пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция... Мы, литераторы, обязаны содействовать победе нового, большевистского вкуса в стране. Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас неполитических побед нет... Стиль большевистской эпохи — в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья. На чем можно учиться?.. Посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, как полны мускулатуры.