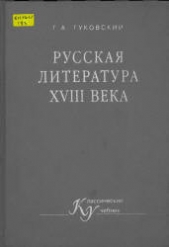Классическая русская литература в свете Христовой правды

Классическая русская литература в свете Христовой правды читать книгу онлайн
С чего мы начинаем? Первый вопрос, который нам надлежит исследовать — это питательная среда, из которой как раз произрастает этот цвет, — то благоуханный, то ядовитый, — называемый русской литературой. До этого, конечно, была большая литература русская, но она была, в основном, прицерковная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всё же у Толстых был один учитель, который пятерых сыновей аттестовал по разному: Сергей (старший брат) – хочет и может учиться; Николай – хочет, но не может; Дмитрий может, но не хочет, а Лев – не хочет и не может. То есть, Лев учился всегда отвратительно, всё-таки, с помощью репетиторов поступил на физико-математический факультет, то завалил первую же сессию и не пошел пересдавать.
В сущности, толстовство тогда то и было предопределено и этим была предопределена вся его последующая жизнь. Многие плохо учились: Тургенев плохо учился, например. Но, всё же сидеть на лекциях, получать двойки, писать контрольные работы – это всё воспитывает смиренномудрие, во всяком случае, в самом низшем его выражении (по Канту) – критика способности суждения.
Диссиденты 70-х годов XX-го века тоже никак не выносили никакой редактуры и объясняли это тем, что им по их диссиденству это нельзя и невозможно, так как их не возьмут ни в какие печатные органы, а в тоже время – кто же, как не они. Люди, которые вообще не выносят постороннего взгляда, не выносят критики, не имеют скромности необходимой в обучении, не имеют послушании, находятся уже в прельщении.
Лев Толстой не получил ни какого православного религиозного воспитания. Если что и может служить не оправданием, не объяснением, но хоть каким-то духовным пространством, куда это извинение могло бы лечь, то это как раз то, что Лев Толстой никогда и ничего в смысле православного вероучения не учился.
Мария Цветаева, например, с раннего детства была бесноватой, но ее так никто и не отчитывал, – не понимали, что это нужно (К Ахматовой у нее была просто бабская зависть).
Об уроках Закона Божьего даже не в частном порядке, а в учебных заведениях идеально вспоминает Рахманинов, который учился в школе при консерватории у Сафонова и у Танеева. Рахманинов вспоминает, что не надо было читать Евангелие, так как для пятёрки достаточно было перечислить четырёх Евангелистов (В дореволюционной России XIX-го века религиозности в дворянском обществе практически не было).
Толстой, у которого никакой веры не было, называл это “отпадением от веры”. Как люди становились сознательными безбожниками Толстой описывает так: “люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал не только не имеющих ничего общего с вероучением, но в большей частью, противоположны ему. Вероучение не участвует в жизни и в отношении с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходиться справляться с ним. Вероучение это исповедуется где-то там, в дали от жизни и не зависимо от неё, если сталкиваешься с ним, то только как с внешним с не связанным с жизнью явлением” [105].
Толстой говорит, что все живут на основании начал, ничего общего не имеющих с вероучением, но все живут на основании начал, то есть принципов, прежде всего противоположных Заповедям, даже Ветхозаветным. Толстой другой среды не знал, чуть-чуть знал среду солдатскую.
Заповедь “возлюби Господа своего всем сердцем, всей крепостью” – кому она понятна? “Не сотвори себе кумира” – а они все – идолопоклонники и так далее, не говоря уж о седьмой Заповеди – “не прелюбодействуй”.
Заповеди Христовы, то есть любовь к Богу и к ближнему, это вообще было утрачено абсолютно, так как не понятно было даже откуда это идёт и что такое “ближний”. Другими словами, это ведь тоже секуляризация, петровский разрыв.
Солоневич оправдывал Толстого тем, что Толстой хорошо описывал то, что он знал: он хорошо знал и описывал войну, она была дворянским делом, он знал и описывал дворянскую усадьбу. Но где Толстой начинает говорить про адвокатов, врачей, чиновников, то есть про какие-то профессии (полу интеллигентские, то, что сейчас называется “образованщиной”), или про духовенство (в любой период своей жизни), то сразу как будто вся его физиономия скорчивается в брезгливую гримасу.
Отношения с другими людьми в дворянском обществе и у Толстого строятся вне всякого отношения к Заповедям и вне всякого отношения к нравственным требованиям. И в этом отношении – это тоже петровский разрыв. Как сказал один свидетель позднего русского Зарубежья Пётр Иванов, что Пётр I научил русское общество не бояться греха, а русское общество – это опять дворянство.
Секуляризация как духовный рак пронизывала русское общество сверху донизу. Толстой в “Исповеди” вспоминает: Татьяна Александровна Вильгорская, которая сама-то по себе и девственница и чистое существо и прочее, но все ее понятия – это сплошной разврат. В частности, она для своего взрослеющего племянника, желает любовную связь с порядочными женщинами, то есть с женщинами из общества, так как считала, что ничто так не формирует молодого человека, как любовная связь с женщиной из общества.
Существовал целый контингент “дамы полу света”, то есть дорогие проститутки, а женщины из общества – это замужняя, в крайнем случае, вдова. Вдову по законам не могли заставить жениться – вдовая женщина сама собой располагать вольна. На девушке легко могли заставить жениться (Анатоль Курагин), так как достаточно было пожаловаться начальству.
Любовная связь с женщиной из общества – это двойной разврат: обман мужа, да и, между прочим, сами женщины, которые в эти связи вступают, скорее всего, вроде холодных хищниц, вроде Елен Безуховой. Недаром в 60-е годы, когда Толстой стал это понимать, то про это написал. Пьер говорит, тряся Анатоля за плечо и за шиворот: “развлекайтесь с женщинами подобными моей супруге, они прекрасно знают, чего вы от них хотите, они вооружены против вас тем же опытом разврата”.
Таким образом, русское, так называемое, общество со столетним опытом развращения живёт в полном извращении христианских понятий, поэтому из общества выходили люди не просто безбожниками, а люди выходили с полным искажением всех понятий добра и зла [106]. Наша русская литература главным образом и создавалось в этом обществе.
В жизнь Толстого, в период примерно с 22-х до 32-х лет, то есть с 50-го по 60‑й годы, вписалась Севастопольская война. Феофан Затворник говорил, что военная служба полезна хотя бы для того, что люди вспоминают “Господи помилуй”, когда над ухом пули свистят.
Именно в эти 10 лет происходит становление Толстого. Казалось бы, что он живёт как все, то есть, предаётся тем же гадким страстям, как он пишет сам. И в то же время его биограф, так называемый, Поша (Бирюков) пишет так: “Среди всей этой пустой и развратной жизни у него, вдруг, наступали периоды религиозности и смирения. Он, говорят, с усердием исполнял обряд говения”. То есть религиозное невежество простирается до того, что никто не понимает, что такое причащение Святых Христовых Таин. Как пишет Иоанн Шаховской: “Говенье – ещё меньший обряд, чем написание Толстым его “Исповеди””.
И по среди своего разврата Толстой ещё и сочиняет “Проповедь”, церковную проповедь, которую хочет предложить священнику для прочтения. В Толстом начинают уже проявляться начатки морального учительства по среди своего греха.
Писатели в России давно уже стали вместо Церкви и на писателей смотрели, как на духовных вождей, а как они сами живут, – это не имело отношения к делу. Некрасов имел штатного сводника, который отбирал в публичных домах свеженьких проституток – но, что об этом говорить, ведь это же Некрасов.
То есть, у общества и у Толстого - полное отсутствие строгости нравственных требований, поэтому в “Проповеди” - это только отчасти ёрничество, отчасти – это серьёзно, так как уже тогда считал, что моральное учительство ему обеспечено и право даёт литературный талант.
Другой, тоже тревожный симптом, чётко указанный Иоанном Шаховским, принципиальное оппозиционерство и это не просто оригинальничие, а это как бы внутреннее исповедание своей несравнимости.
Если провести сравнение с Достоевским, то Достоевский в конце жизни почувствовал внутреннее тяготение к славянофильству, то прямо просил Ивана Сергеевича Аксакова научить его, в чём состоит эта философема и какая идейная и духовная установка славянофильства. Иван Сергеевич даёт ему своё известное определение, что тот только славянофил, кто признаёт Христа основой и конечной целью русского народного бытия, а кто не признаёт – тот самозванец.