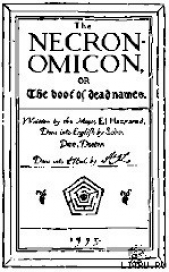Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?

Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? читать книгу онлайн
Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик. В книге рассматриваются самые различные ситуации, в которых статус документа признается высоким или, напротив, подвергается сомнению, — речь идет о политической власти и бюрократических институтах, памяти о прошлом и исторической науке, визуальных медиа и литературных текстах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Один из них — вручение «Букера-2003». Романом года было признано «Белое на черном» Рубена Давида Гонсалеса Гальего — текст, который рецензенты, вне зависимости от того, как они оценили решение жюри, почти единодушно отказались воспринимать в качестве романа: «Такие тексты лежат вне поля критики. Предъявлять им эстетические или идеологические претензии имеют право лишь те, кто испытал нечто подобное. <…> Никакая премия не искупит страданий Гонсалеса Гальего» [445]; «На фоне жеманной литературщины последних лет, исстрадавшейся „в поисках героя“ (и вообще хоть чего-нибудь), повесть действовала на читателей, как флакон нашатыря. Всякие постмодернистские глупости о соотношении в тексте „этического“ и „эстетического“ надежно вылетали из головы: жизнь — важнее. Даже критики подравнялись и присмирели: было ясно — эта книга обойдется без их „авторитетного мнения“. Ясно это было и букеровскому жюри» [446].
Действительно, эта книга воспроизводит, фиксирует ситуацию абсолютной оставленности. Годовалый ребенок, пораженный церебральным параличом, лишенный родителей, обреченный на роль чужого в чужой стране, попадает внутрь советской социальной машины, которая жестко регламентирует жизнь инвалидов-сирот вплоть до шестнадцати лет: больница — детский дом — дом престарелых — ранняя смерть. То, что из ситуации, в принципе исключающей любое движение, разворачивается нарратив, кажется шокирующим и выходящим за пределы человеческих возможностей. Предисловие к первой, журнальной, публикации текста еще больше расшатывает границы правдоподобия («И тут начинается политический триллер» [447]): Гонсалес Гальего, внук лидера испанской коммунистической партии, родился в Кремлевской больнице, вскоре в результате политических интриг был разлучен с матерью, а спустя много лет, будучи уже взрослым, неожиданно нашел ее и вернулся в Испанию. Собственно, «Белое на черном» пишется уже в Испании — и это письмо отнюдь не «наивно», нарратор вполне владеет ресурсами дистанцирования от нарратива; осознанный интерес к литературной практике, возможно, сочетается здесь с традициями «writing therapy» и «self-help». Однако в языке русской литературной критики для текста Гонсалеса Гальего не обнаружилось иных определений, кроме «человеческого документа» — «Белому на черном» может быть вменена только эта не слишком гибкая интерпретационная модель, постоянно буксующая между эстетической оценкой и стыдом за нее. (Замечу в скобках, что подобным образом была воспринята и вторая книга того же автора — «Я сижу на берегу» (2005).)
Суть другого сюжета, спровоцировавшего аналогии с драматургией «Букера-98», один из критиков выразил лапидарной формулой «проект „Бибиш“» [448]. В 2004 году издательство «Азбука» опубликовало существенно отредактированный вариант рукописи иммигрантки из Средней Азии Хаджарбиби Сиддиковой, озаглавив его «Танцовщица из Хивы, или История простодушной». Едва появившись, эта публикация была номинирована на премию «Национальный бестселлер», в шорт-лист не вошла, однако бестселлером действительно стала, а сама Хаджарбиби, или, как она себя предпочитает представлять, Бибиш, на некоторое время оказалась постоянной героиней телевизионных шоу. «Азбука» спешно выпустила еще одну книгу — «Ток-шоу для простодушной», в значительной степени собранную из оставшихся, не включенных в «Танцовщицу из Хивы» материалов исходной рукописи.
Достаточно прочесть критические отзывы, размещенные на обложке «Танцовщицы из Хивы», чтобы удостовериться в том, на какие стереотипы чтения ориентирован «проект „Бибиш“»: «Это новая литература, которая отдает читателю на съедение не виртуальные плоды изобретательного ума, а куски горячей плоти, срезанные автором с собственных костей» (Татьяна Набатникова); «Эта история… отменяет всякую литературу: слова переходят в другую весовую категорию, и долго еще после прочтения этой книги невозможно относиться всерьез к художественной литературе и придуманным сюжетам» (Александр Гаврилов); «Самые жуткие, с точки зрения европейца, факты окружающей действительности излагаются Бибиш с поразительным смирением… Хивинская танцовщица создает не просто литературное произведение, но человеческий документ, уникальный по силе воздействия» (Галина Юзефович).
Многочисленные интервью с Бибиш демонстрируют, что она точно чувствует регистры, определяющие ее литературную роль, обеспечивающие ее право рассказывать, — «простодушие», «народность» и «инородность». (Любопытно сравнить название, присвоенное первой книге «Бибиш» издательством «Азбука», с англоязычной версией: «The Dancer from Khiva: One Muslim Woman’s Quest for Freedom». Как видим, в случае перевода акцентируются совсем другие смыслы — «поиск свободы» вместо «простодушия».) В рамках этого режима восприятия диплом Института культуры, имеющийся у Бибиш, не умаляет писательской наивности, а язык, приведенный к грамматической норме серьезными редакторскими усилиями, продолжает казаться экзотическим. «Проект „Бибиш“» наглядно показывает, как акцент на стереотипных образах иного, находящегося на границах нормы (будь то норма литературная, языковая или поведенческая), становится одним из самых действенных способов нормализации [449]. «История простодушной» — конечно, результат нормализации, помещения текста в привычный контекст, предполагающий беспристрастное изложение «фактов окружающей действительности». Необходима радикальная перенастройка оптики, чтобы, скажем, увидеть в повествовании Бибиш — о детстве в узбекском кишлаке, об изнасилованиях, учебе, замужестве, гастарбайтерстве — плотную смесь автобиографизма и фантазма и испытать «вместо чаемого катарсиса… эффект психопатологии, душного бреда» [450].
Вообще, метафора патологии, болезни, прямо отсылающая к опытам натуралистической школы, представляется чрезвычайно важной для понимания того, как устроен воображаемый архив «человеческих документов» — текстов, которым мы присваиваем документный статус. «Болезнь» (психическая [451], телесная, социальная) — в каком-то смысле вытесненная, теневая сторона образов наивности и простодушия; это та доля притягательного ужаса, которую читателю позволяет почти неосознанно сохранить нормативная позиция, занятая по отношению к «наивному» тексту. Метафора болезни сигнализирует об уязвимости этой позиции, ненадежности нормы — норма в любой момент может быть разрушена внутренней или внешней патологией.
Публикации Александры Чистяковой, Рубена Гонсалеса Гальего, Бибиш — в силу разных обстоятельств — представляют собой тексты, уже адаптированные (в отличие от тетрадок Евгении Киселевой) к соответствующим нормам. Они не обладают некими объективными свойствами человеческого документа (таких онтологически заданных свойств, разумеется, и не существует) — литературному сообществу по каким-то причинам важно прочесть их в этом качестве.
Проблема, требующая здесь решения, конечно, заключается вовсе не в том, насколько наивны эти тексты и имеют ли они эстетическую ценность, а в том, какие болезни мы на самом деле видим и подразумеваем, когда говорим, что человеческий документ правдиво «отражает жизнь», какие патологии суждения о литературе (и собственно института критики) при этом обнаруживаем. Повышенный интерес к текстам, которые, по признанию одного из процитированных выше рецензентов, «лежат вне поля критики», настойчивое противопоставление этих текстов обычной («грешащей архаичностью») литературе, — недвусмысленное свидетельство, во-первых, проблематичного статуса литературности, а во-вторых, кардинального сбоя механизмов критической рецепции. Другими словами, литературный текст оказывается центром нарушенной коммуникации: существующие навыки его прочтения «не работают», не приводят к желаемому эффекту — к возможности испытать непосредственную читательскую реакцию, «включиться в текст», «соотнестись с ним». Возникающее чувство, что литературное произведение герметично, закрыто от критика, что его «непонятно, как читать», может компенсироваться привычным объяснением — литература недостаточно хорошо «отражает» реальность («не показывает» актуальных проблем, не создает узнаваемые социальные типажи, говорит на архаичном языке etc.).