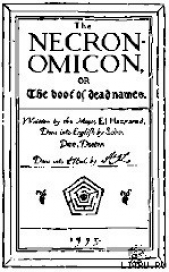Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?

Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? читать книгу онлайн
Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик. В книге рассматриваются самые различные ситуации, в которых статус документа признается высоким или, напротив, подвергается сомнению, — речь идет о политической власти и бюрократических институтах, памяти о прошлом и исторической науке, визуальных медиа и литературных текстах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чтобы понять, насколько специфичен такой взгляд на документ, стоит сравнить его, например, с размышлениями Джорджо Агамбена о способах вербализации травматического опыта, выходящего за пределы любых представлений о возможном и допустимом. Философ предлагает различать «документ» и «свидетельство»: спонтанному нарративу-свидетельству противопоставляется документ как структурированный, оформленный (а значит, более формализованный) тип повествования, уже отчасти адаптированный к травме (и, соответственно, вытеснивший самое непереносимое и болезненное) [428]. Речь, разумеется, не о том, что агамбеновская оптика противоречит, скажем, бахтинской, а о принципиально различных целях обращения к понятию документа: оно помогает уловить по контрасту с собой в одном случае возможность максимально непосредственного, то есть не опосредованного нормами, до-конвенционального высказывания («свидетельство»), в другом — возможность высказывания максимально структурированного (литература).
Таким образом, тема документа стала изнаночной стороной двух ключевых и наиболее дискутируемых в литературной теории XX века способов опознавать литературный текст, задавать его дефиницию — через характеристику вымышленности, во-первых, и повышенной структурированности, во-вторых. Необходимо подчеркнуть при этом, что вторая характеристика оказалась не менее проблемной и проблематичной, чем первая, собственно и спровоцировав постструктуралистскую реакцию.
Иной, гораздо менее распространенный исследовательский подход к разговору о литературе и одновременно о документе предполагает, что документ воздействует на литературу, прививает ей специфический набор значений (возбуждает рефлексии об определениях реальности, историчности, природе знания, языковых кодах etc.) и специфический инструментарий, специфическую модель построения нарратива (фрагментарность, коллажность, монтажность etc.): именно эти значения и этот инструментарий (фактически — «содержание» и «форма») должны стать предметом анализа [429]. Однако и такой подход представляется довольно ограниченным и узким. Вопреки кажущемуся на первый взгляд смещению акцентов с литературности на документность эта оптика сохраняет за документом служебную роль, документ продолжает рассматриваться с прагматичных, в некотором смысле, позиций: он наделяется значимостью постольку, поскольку может быть успешно использован литературой в своих целях.
Думается, самой продуктивной здесь окажется попытка подключить анализ коммуникативных ситуаций, в которых воспроизводятся представления и о документности, и о литературности. Тогда основанием для различения литературы и документа будут не столько какие-то «содержательные» или «формальные» признаки, сколько в первую очередь режим восприятия текста. Связанные с документом особые типы адресации и «авторства» [430], конечно, кардинально отличаются от литературных. По предположению Дороти Смит, в случае документа — в отличие от литературы — роли читателя и автора в гораздо большей степени задаются контекстом, нежели текстом [431]. Эта формулировка, имеющая отношение, что характерно, и к категории структурности (литературный текст особенно усиленно конструирует инстанции автора и читателя, целенаправленно структурирует представления о них), и к категории вымысла (противопоставленный тексту «контекст» предполагает, что степень соотнесения прочитанного с зоной «наличного интереса» и персонального опыта в случае документа существенно выше), в то же время фокусирует внимание на более базовом уровне проблемы — статус документа и статус литературы подразумевают разные модусы прочтения, отсылают к разным навыкам рецепции и, главное, задают разные режимы читательской (и авторской) идентичности.
Именно столкновение (или наложение) различных режимов восприятия я буду дальше иметь в виду, говоря о возможностях взаимодействия литературности и документности. Понятия «фактуального повествования» и «(псевдо)документального жанра» не исчерпывают и даже не отражают многообразия типов такого взаимодействия и, что особенно важно, не проясняют его мотивов. Литературные тексты заимствуют существующие в культуре конфигурации документа вплоть до попыток их имитировать, или размышляют о документе и создают его мифологию, или используют документы в качестве «рабочего материала», или, наконец, сами приобретают статус документов в глазах своих читателей. Эти и другие способы обращения с документом (с культурными представлениями о нем) могут являться частью более или менее продуманной авторской стратегии, но могут и вменяться тексту литературным сообществом, критикой, читателями (чаще, конечно, одновременно происходит и то и другое).
Итак, ниже я намереваюсь рассмотреть, как акцентируется документность, в каких ситуациях она становится «видимой», на примере нескольких литературных событий недавнего времени. Я остановлюсь на двух полярных режимах воспроизводства литературных норм и оценок — «наивное письмо» (aka «человеческий документ») и «большая литература». Метафора человеческого документа, довольно популярная в отечественной литературной критике 2000-х годов, предполагает радикальное отождествление литературности и документности; статус «большой литературы» — умение автора работать с архивными материалами и использовать документ в качестве надежного фундамента для литературного воображения. Моя цель — не просто показать, насколько актуальны подобные представления, но, скорее, выяснить, какие типы социальности сегодня связаны с ними, что та или иная приписываемая документу роль говорит о практикующихся способах чтения, способах литературной адресации, способах коммуникации в пределах и за пределами литературного пространства.
Исходя из убеждения, что границы документного подвижны, но не размыты, я буду прежде всего принимать в расчет следующие тесно связанные между собой функциональные характеристики: документ как «суррогат человека», его репрезентант (в терминах Дэвида Леви [432]), и документ как заменитель практики персонального доверия в тех случаях, когда она по тем или иным причинам оказывается невозможной [433].
«Наивное письмо»: литература как документ
Многообразные значения метафоры человеческого документа могут существенно расходиться, однако имеют общую генеалогию — «экспериментальный роман» натуралистов, проект литературы, аналогичной позитивистскому исследованию [434].
Русская литературная критика периодически проявляла интерес к понятию человеческого документа, преимущественно именно в те периоды, когда под вопросом оказывались собственно литературные конвенции и нормы, разрушались связи внутри института литературы (заметный всплеск популярности «человеческого документа» приходится на 1920–1930-е годы [435], особенно в эмигрантском литературном сообществе и не без влияния пере-открытия сюрреалистами идеи документирования [436]); разумеется, при этом понятию присваивался достаточно широкий диапазон интерпретаций. Одна из наиболее востребованных сегодня трактовок была зафиксирована на языке советского литературоведения в 1970-х годах: Петр Палиевский определяет «человеческий документ» как «невольное искусство», «непреднамеренно всплывшие на поверхность „письмена“, не имевшие художественной цели», в конечном счете — как «литературу без писателя» [437]. Казалось бы, от изначального смысла понятия, введенного натуралистической школой, здесь ничего не осталось — имеется в виду принципиально иной тип текста и, главное, иной тип авторства. Однако Палиевский добавляет: ценность описываемого им явления заключается в том, что «читатель спокойно видит тут в роли художника целое общество или жизнь, сотворившую и автора, и документ» [438]. Другими словами, «человеческий документ» и в этом случае указывает на закрепление за литературой функций объективного «зеркала реальности» и познавательного инструмента, только роль исследователя смещается от инстанции автора к инстанции читателя.