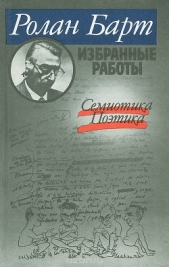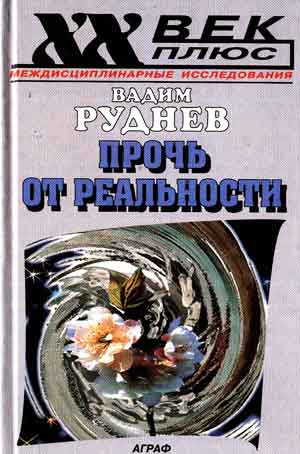Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы
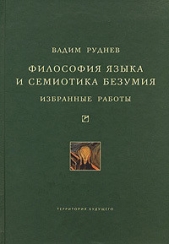
Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы читать книгу онлайн
Вадим Руднев – доктор филологических наук, филолог, философ и психолог. Автор 15 книг, среди которых «Энциклопедический словарь культуры XX века» (переиздавался трижды), «Прочь от реальности: Исследования по философии текста» (2000), «Характеры и расстройства личности» (2002), «Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни» (2002), «Словарь безумия» (2005), «Диалог с безумием» (2005).
Настоящая книга представляет собой монографию по психосемиотике – междисциплинарной науке, включающей в себя психоанализ, аналитическую философию, теоретическую поэтику, семиотику, мотивный анализ – которая разрабатывается В. Рудневым на протяжении последнего десятилетия. Суть авторского подхода состоит в философском анализе таких психических расстройств, как депрессия, невроз навязчивых состояний, паранойя, шизофрения и их составляющих: педантизма и магии, бреда преследования и величия, галлюцинаций. Своеобразие его заключается в том, что в каждом психическом расстройстве автор видит некую креативную силу, которая позволяет человеку, выпавшему из повседневной нормы, создавать совершенные произведения искусства и совершать гениальные открытия. В частности, в книге анализируются художественные произведения, написанные под влиянием той или иной психической болезни. С присущей ему провокативностью автор заявляет, что болен не человек, а текст.
Книга будет интересна психологам, философам, культурологам, филологам – всем, кто интересуется загадками человеческого сознания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вторая, очень важная характеристика обломовского житья – это ее асемиотичность, природность и тотальное сопротивление всему когнитивно-эпистемическому – обломовцы практически ничего не читают, не выписывают газет, ничего не хотят знать о большом мире. Автор иронически обосновывает это положение вещей в качестве некой «синтонной» идеологии.
Оттого и говорят, что прежде крепче был народ. … Да, в самом деле крепче, прежде не торопились объяснять ребенку значения жизни и приготовлять его к ней как к чему-то мудреному и не шуточному; не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь.
Характерен в этом плане эпизод с письмом, которое приходят в Обломовку и его несколько дней не решаются раскрыть, потом читают настороженно всей семьей, потом решают, что надо бы на него ответить, но потом забывают об этом и так и не отвечают. Точно так же относится выросший Обломов к знанию.
Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удавалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам. … Если давали ему первый том, он по прочтении не просил второго, а приносили – он медленно прочитывал.
Потом уж он не осиливал и первого тома…
Интересно, что Гончаров, вполне в духе Мелани Кляйн, отмечает важность младенческих впечатлений от окружающей жизни, формирующей его жизненные стереотипы.
А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?
Может быть, когда дитя еще едва выговаривает слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным немым взглядом, который взрослые называют тупым и уж видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.
Время в романе «Обломов», в частности, самим Обломовым представляется как энтропийное время – время нарастания энтропии и распада.
Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет, а он и на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад.
В своей исповеди Штольцу эту энтропийную картину Обломов реализует в метафоре угасания.
Нет, жизнь моя началась с погасания; … с первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал, что я уже гасну. Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразнивание, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной; платил ей больше своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту … гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум…
Чрезвычайно интересно и то, что Гончаров (который сам был депрессивным человеком) явно почувствовал интроективные корни депрессии, что явствует из следующего фрагмента:
А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, а давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой (Курсив мой. – В. Р.) .
Подобно другим героям депрессивно-реалистической русской прозы – Онегину, Печорину, Бельтову, Гагину, Рудину, Базарову – Обломову не удалось через любовь к женщине преодолеть депрессию и реализовать свои экзистенциальные возможности. Золото навсегда осталось в недрах горы.
ЯЗЫК ПАРАНОЙИ
С некоторой смелостью можно утверждать, что истерия представляет собой карикатуру на произведение искусства, невроз навязчивости – карикатуру на религию, параноический бред – карикатурное искажение философской системы
Паранойяльный бред занимает промежуточное положение между большим психозом типа шизофрении и классическим неврозом вроде обсессии [1]. С одной стороны, паранойяльный бред – это настоящий бред, то есть такое положение вещей в сознании, когда картина мира, которую это сознание продуцирует, фундаментально не соответствует картине мира того социума, в котором он находится (говоря на более категоричном языке традиционной психиатрии – это «неправильное, ложное мышление»). С другой – главная черта паранойяльного бреда, отделяющая его практически от всех остальных видов бреда, заключается в том, что бредовой (неправильной, ложной) в нем является только основная идея, посылка. Остальное содержание бреда, выводящееся из этой посылки, обычно в этом случае бывает вполне логичным и даже подчеркнуто логичным (поэтому паранойяльный бред называют систематизированным и интерпретативным) или, как говорят психиатры, «психологически понятным».
Так, например при паранойяльном бреде ревности ложной является главная посылка больного, что жена ему постоянно и систематически изменяет чуть ли не со всеми и подряд [2]. Все остальное в поведении больного – слежка за женой, проверка ее вещей, белья, гениталий, устраивание допросов и даже пыток с тем, чтобы она призналась (подробно см. [Терентьев, 1991]), – все это логически вытекает из посылки. То есть поведение параноика хотя и странно, но оно логически не чуждо здоровому мышлению в отличие, скажем, от поведения шизофреника, который может утверждать, что он является одновременно Папой римским и графом Монте-Кристо, что его преследуют инопланетяне, которые при помощи лучей неведомой природы вкладывают ему свои мысли в мозг. Говоря языком двух наших предыдущих исследований [Руднев, 2001, 2001б], можно сказать короче. Паранойяльный бред тем отличается от шизофренического тем, что в нем нет экстраекции и экстраективной идентификации, то есть у бредящего параноика не бывает галлюцинаций и он не отождествляет себя с другим людьми. Если же это начинает происходить, то это означает, что перед нами была паранойяльная стадия шизофренического психоза, и теперь она переходит в параноидную стадию, для которой характерна экстраекция.
Но нас в данном случае интересует именно такой бред, при котором нет экстраекции. Этот феномен интересен тем, что он очерчивает границы, отделяющие психоз от не психоза и подчеркивающие сущность психоза. Основное отличие бредящего параноика от шизофреника заключается в том, что параноик разделяет одну и ту же фундаментальную картину мира со здоровыми людьми, не сходясь с ними только в одном пункте, который составляет главную мысль бреда, например измена жены или тот факт, что евреи добиваются мирового господства. Но, сохраняя фундаментально общую картину мира со здоровыми людьми, параноик заостряет, акцентуирует ее черты, что позволяет нам тем самым попытаться обнаружить, в чем именно эти черты состоят.
Главное различие между картиной мира нормального человека (нормального невротика) и картиной мира психотика заключается в том, что в последнем случае означающее, символический аспект, не просто превышает означаемое, «реальность», но полностью ее подменят [Лакан, 1998]. То есть психотическое сознание оперирует знаками, не обеспеченными денотатами. Этих денотатов просто не существует. И в этом сущность экстраекции. При этом важно не только то, что психотик все придумывает, но что источник его выдумок – галлюцинации, которые находятся по ту сторону семиотики, поскольку у знака должно быть две стороны: означаемое и означающее, план содержания и план выражения (или денотат); у галлюцинаций нет плана выражения, нет денотата. В каком-то смысле их странность как раз состоит в этой семиотической неопределенности. Но при этом экстраективное сознание не нуждается в семиотическом подтверждении. Ему вполне достаточно ссылок на собственный опыт, который носит транссемиотический характер. Ему все это нашептали голоса – а что это за голоса, какова их семиотическая природа, их статус, не только не известно, но и не важно в принципе. Достоверность экстраективного опыта гарантируется самим наличием этого опыта. В этом суть шизофренического бреда – он сметает треугольник Фреге: