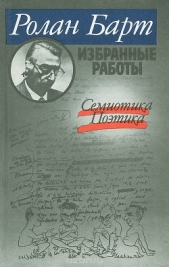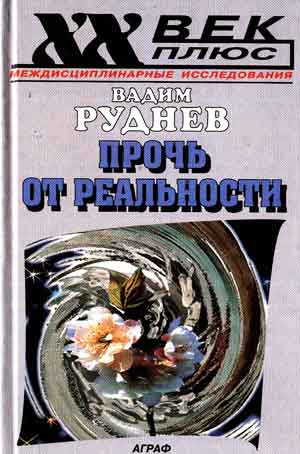Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы
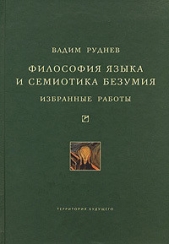
Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы читать книгу онлайн
Вадим Руднев – доктор филологических наук, филолог, философ и психолог. Автор 15 книг, среди которых «Энциклопедический словарь культуры XX века» (переиздавался трижды), «Прочь от реальности: Исследования по философии текста» (2000), «Характеры и расстройства личности» (2002), «Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни» (2002), «Словарь безумия» (2005), «Диалог с безумием» (2005).
Настоящая книга представляет собой монографию по психосемиотике – междисциплинарной науке, включающей в себя психоанализ, аналитическую философию, теоретическую поэтику, семиотику, мотивный анализ – которая разрабатывается В. Рудневым на протяжении последнего десятилетия. Суть авторского подхода состоит в философском анализе таких психических расстройств, как депрессия, невроз навязчивых состояний, паранойя, шизофрения и их составляющих: педантизма и магии, бреда преследования и величия, галлюцинаций. Своеобразие его заключается в том, что в каждом психическом расстройстве автор видит некую креативную силу, которая позволяет человеку, выпавшему из повседневной нормы, создавать совершенные произведения искусства и совершать гениальные открытия. В частности, в книге анализируются художественные произведения, написанные под влиянием той или иной психической болезни. С присущей ему провокативностью автор заявляет, что болен не человек, а текст.
Книга будет интересна психологам, философам, культурологам, филологам – всем, кто интересуется загадками человеческого сознания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким образом, получается, что главное отличие между трансферентными неврозами (истерией, обсессией и фобией) и депрессией («нарциссическим неврозом») заключается в том, что первые акцентуированно семиотичны, а вторая – наоборот – акцентуированно контрсемиотична. В этом плане трансферентными эти неврозы могут быть названы прежде всего потому, что они образуют семиотическое отношение между знаком и означаемым (трансфер ведь также имеет прежде всего семиотический смысл как символическое разыгрывание каких-то других отношений).
Депрессия не образует никаких знаков. Можно сказать, что депрессивная мимика и жестикуляция, имеющая, как правило, весьма смазанный характер – опущенные скорбно веки, согбенная поза и т. д. – семиотизируется в том случае, когда депрессивный человек, извлекая вторичную выгоду из своей болезни, каким-то образом истеризует свою симптоматику. Застывая в скорбной позе, он молчаливо этим показывает, что ему плохо и взывает о помощи. Таким образом, эту процедуру, которую психоаналитик проделывал с невротическим симптомом – снимая слой поверхностного «сознательного» означающего и подыскивая при помощи техники свободных ассоциаций скрытое глубинное бессознательное и подлинное означающее – эта процедура не проходила в случае с депрессией, поскольку здесь просто не за что было ухватиться – этих означающих не было, симптома, который можно было бы «пощупать», не было. Тоска, вина, тревога – семиотически слишком сложные и расплывчатые понятия, чтобы с ними можно было так работать (чисто теоретически попытку проработки этих понятий Фрейд предпринял в статье «Торможение, симптом и страх» 1924 года). Для того чтобы хоть как-то семиотизировать депрессию, психоаналитики ухватились за оральную фиксацию, процесс усвоения и поглощения пищи. Однако при тогдашней достаточно механистической идее, в соответствии с которой клиент должен вспомнить или хоть каким-то образом задним числом реконструировать травму, невозможно было представить, чтобы человек вспомнил, как он в младенчестве сосал материнскую грудь и какие перипетии этому соответствовали.
Говоря более обобщенно, неудача псиахоаналитической психотерапии депрессивных расстройств, можно сказать, кроется в том, что депрессивного человека нужно вывести вперед из его сузившегося десемиотизированного мира в новый, большой семиотический мир, в то время как психоанализ всегда тянул пациента назад в прошлое. Депрессивного человека нужно было бы научить пользоваться экстравертированным языком мира, психоанализ же ему навязывал интроективный квази-язык бессознательного. В этом плане характерно, что наибольших успехов в лечении депрессии добилась противоположная психоанализу психотерапевтическая когнитивная стратегия Аарона Бека [Бек, 1998; Вольпе, 1996; Beck, 1989], которая отказалась от техники погружения в прошлое и все внимание обратила именно на коррекцию и обучение эпистемическому, то есть на семиотический взгляд на мир. Фактически в случае лечения депрессии это было не что иное, как обучение языку мира, поэтому оно и стало достаточно успешным.
Но что такое обучение языку, как оно происходит? Для этого, прежде всего, нужны органы зрения и в меньшей мере слуха. В ряде языков концепты видения и знания пересекаются. Например, видеть и ведать в русском языке этимологически связаны – всеведущий это всевидящий (отсюда понятие всепроникающего мысленного взгляда). Немецкое wissen (знать, ведать) эимологически связано с латинским videre (видеть). Для того чтобы активно приобретать информацию, необходимо и видение, и ведение. Однако при депрессии зрение и слух начинают играть гораздо меньшую роль, чем при нормальном состоянии или другом психическом расстройстве, например, при паранойе, когда человек все упорно высматривает и выведывает. При депрессии человек погружен в себя – он, как шкурой-утробой, укрыт от мира своим суженным депрессивным сознанием. Ему не интересно и тягостно смотреть вокруг. При тяжелой депрессии человек перестает читать, ходить в кино и театр, смотреть телевизор, слушать музыку.
Когда Онегин в конце первой главы романа заболевает депрессией, он прежде всего теряет зрительный и слуховой интерес к миру – перестает читать, писать, замечать красивых женщин, даже разговоры и сплетни его перестают интересовать.
При депрессии оральная фиксация перетягивает на себя зрение и слух, так же как интроективность поглощает интерес к внешнему миру.
Эта редукция зрения и слуха при депрессии чрезвычайно тесно связана с общей тенденцией к десемиотизации, поскольку восприятие мира как семиотической среды, как семиосферы (по выражению Ю. М. Лотмана), – это прежде всего визуа льно-аудиа льное восприятие. Нельзя попробовать на вкус солнечный свет, так же как на вкус нельзя выучить новый язык. Вообще развитие зрение и слуха – прерогатива homo sapiens, или homo semioticus. С этим связана такая особенность человеческого развития, как экстракорпоральность (термин К. Поппера [Поппер, 1983]) – развитие орудий труда, отделенных от тела. Знак, который воспринимает зрелое человеческое сознание, – это, прежде всего, отделенный и отдаленный от тела на какое-то расстояние предмет – то есть семиотическое может восприниматься прежде всего при помощи зрения и слуха, а не тактильным, вкусовым или обонятельным способом. То есть зрение и слух – наиболее когнитивно активные ограны чувств – редуцируются при депрессии. В этом смысле тот минимальный запас знаковости, который остается у депрессивного человека, гораздо более тесно связан с его собственным телом, которое можно пощупать, обнюхать и попробовать на вкус. Все это, конечно, соответствует идее регрессивности при депрессии к предродовому состоянию и, более того, к животному состоянию (в смысле преобладания чисто животных способов восприятия мира, которые гораздо менее семиотичны, чем восприятие мира глазами homo sapiens). Можно сказать, что при острой депрессии редуцируется абстрактное мышление и живое человеческое чувство (деперсонализация – anasthesia psyhica dоlorosa) и соответственно актуализируется примитивное ощущение. Говоря словами «Философии имени» А. Ф. Лосева, феноменология мышления, присущая человеку, «когда знание мыслит само себя изнутри» [Лосев, 1990: 74], сменяется более примитивной «феноменологией ощущения» – «знания себя и иного без знания факта этого знания». Характерным образом феноменология ощущения, присущая животному, описывается Лосевым как «слепота и самозабвение смысла» (Курсив мой. – В. Р.) [Лосев: 73]).
При депрессии человеческое тело действительно как бы забывает само себя. Депрессивный человек, как правило, редуцирует все или большинство своих микро – и макросоциальных связей, то есть связей, идущих от его тела к телам других людей; он перестает быть коммуницирующим телом в противположность телу истерика. Если тело истерика как бы все время говорит: «Обратите на меня внимание», то дело депрессивного говорит обратное: «Не обращайте на меня внимания». Это, конечно, тоже коммуникация, но это ее последняя стадия, нулевая степень.
И все же говорить, что эпистемический канал полностью редуцируется при депрессии, было бы сильным преувеличением.
То, что мы имеем в виду, конечно, не означает, что человек в острой депрессии не различает значений слов или пропозиций.
Можно сказать, вспоминая фрегевское противопоставление между смыслом и денотатом [Фреге, 1978], что депрессивный человек, конечно, различает значение (денотат) высказывания, но ему становится безразличным его смысл, то есть он в состоянии различать истинность и ложность высказываний. Например, он наверняка понимает, что высказывание (примененное к нему самому) «Я – человек» истинно, а высказывание «Я – рыба» ложно. Другое дело, что смысл, содержание (интенсионал), этих высказываний ему безразличен. В этом плане ему все равно, человек он или рыба, хотя он безусловно понимает, что первое истинно, а второе ложно. В случае шизофрении (то есть когда не означаемое подавляет означающее, а означающее подавляет означаемое) все происходит наоборот. То есть шизофреник в параноидно-бредовом состоянии не сможет правильно разграничивать истинностное значение высказываний, но зато для него чрезвычайно актуальным будет их смысл. То есть он может счесть высказывание «Я – человек» ложным, а «Я – рыба» истинным – он может считать себя рыбой. Он может считать истинными оба высказывания, поскольку шизофренику закон исключенного третьего не писан. И наконец, оба высказывания могут показаться ему ложными, ведь он может вообразить, что он ни человек, ни рыба, а бабочка (в духе «Чжуан-цзы») или ветка жасмина (в духе «Школы для дураков» Соколова). Именно вследствие этой редукции истинностных значений при шизофрении нагрузка на смысл будет гораздо большей, чем при нормальном мышлении. Высказывание «Я – рыба» может породить у шизофреника самые причудливые ассоциации, например, что он Христос, потому что символ Христа – рыба. Или что он маленькая рыбка, которую преследует огромная рыба. Или наоборот, что он и есть эта огромная рыба.