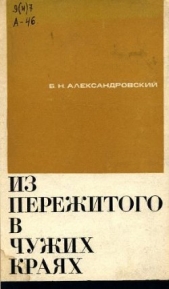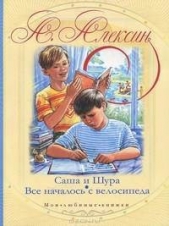Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии

Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии читать книгу онлайн
В итоговой книге Анатолия Андреевича Бухарина (1936–2010) – литератора, историка, исследователя традиций отечественного либерализма, пушкиниста, яркого человека непростой судьбы – представлены разножанровые произведения (эссе, очерки, рассказы, воспоминания и т.?д.), написанные в последние полтора десятилетия и объединенные неповторимой авторской интонацией. Это своего рода «страстные размышления», «взволнованные думы», отражающие итоги постижения нашим современником сложных перипетий отечественной истории и культуры.
Уникальное единство художественного и исторического контекстов, естественное для Бухарина-мыслителя, делает книгу заметным явлением современной русской прозы и историографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анну все чаще стали приглашать на мини-концерты для узкого круга на ближних и дальних дачах обкома, и вот однажды, глухой осенней ночью, она вернулась в крови и со сломанной рукой. Все было просто и жестоко: музыка, песни, улыбки и вино, а потом – отдельный номер и бешеная сексуальная атака секретаря горкома. Анна, не раздумывая, разбила окно и прыгнула в ночь. Спас обыкновенный водитель самосвала, подобравший ее на дороге.
Алексей – воистину божий человек. Он знал, где живет Дьяконов, дождался его в подъезде, но успел нанести этой сволочи только один удар. По своей комсомольской наивности он не знал, что дом партийного воротилы охраняли, как зеницу ока. Очнулся в болоте. Никого. Неподалеку догорал его «жигуленок». Остался жив, но ноги пришлось ампутировать. Потом узнал, что остова «жигуленка» на месте расправы не оказалось. Видимо, все, что осталось от сожженной машины, выбросили на свалку. Следствие всей истории – переезд в Н-ск.
Теперь Анна не пела, писала кандидатскую о Полине Виардо. А Алексей заново осваивал искусство жить.
Николай Алексеевич прервал свой рассказ, выпил рюмку, закурил и долго стоял у окна.
Светало.
– Что же было дальше?
– Я предложил им деньги. Не взяли. Я вернулся в Москву. Бился долго: как помочь? Изнуждались они в нитку. Алексей перенес еще две операции. И, наконец, я решился: женился на «кастрюле».
– На кастрюле? Как это понять?
– На милой, домовитой московской вдове генерала. Она во мне души не чает, а я терплю. Зато все приняло определенное положение: Алексей больше не ревновал, и мы задружили домами. Денег Анна по-прежнему не брала, но получала гонорары за статьи и очерки, которые я «проталкивал» в Москве и в Париже. Когда Алексей окреп, стал рисовать. Не Репин, конечно, но картины находят покупателей даже в Москве.
– И вы один из них?
– Ну, разумеется.
– Анна любит вас?
– Не знаю. Теперь она снова поднялась на крыло, защитила кандидатскую, а Алексея приняли в Союз художников. Недавно выставлялся в Москве.
– А вы?
– Что я? Я люблю, – сказал и посмотрел мне прямо в глаза. Вспомнилось признание Анны: «Один и сейчас любит. Уж высох весь, а все любит». Знала, что говорила. В глазах Николая Васильевича я увидел восторг и невыплаканные слезы любви.
Мы попрощались.
Не спалось. Все думал: что это? Прекрасное безрассудство или тонкое цветение вечно молодой души?
1999

На краю жизни
Инфаркт надолго уложил меня на больничную койку. После реанимации перевели в общую палату, и я очутился в компании двух сердечников. Первого, летчика, полковника в отставке и убежденного холостяка, звали Игнатом Петровичем, а второго, хмурого вдовца, – Андреем Ивановичем. Он был финансистом.
Товарищи по несчастью играли в шахматы, делая перерывы только для процедур, выздоравливали и готовились к выписке. Я не обращал на них никакого внимания и наслаждался первыми часами освобождения из объятий смерти. Каждый, кто побывал на краешке «того света», поймет меня. Голая акация за окном была милее майской березы, а серый зябнувший воробей не чирикал, а рассыпался трелями соловья. Врачи и сестры сияли в нимбах ангелов-хранителей.
В светлые часы возвращения к жизни воспринимаешь мир только прекрасным, без платоновской приставки «яростный».
Не приведи Господь испытать не только второй, но и первый инфаркт, однако смею сказать: катастрофы сердца сродни Апокалипсису. Они рассеивают иллюзии о неизбывности собственной жизни и показывают предел ее. В эти жуткие часы осознаешь ничтожность суеты и видишь явственно, до боли величие самой жизни. Одним словом, драмы, связанные с угрозой «ухода», полезнее всякого университета.
В шесть появлялась сестра полковника, тучная седая блондинка, и, переваливаясь уточкой, шла к брату. Присев на стул, начинала торжественно, как посол верительные грамоты, вручать яблоки, морскую капусту и непременную красную рыбу. Брат вяло сопротивлялся (ну, куда столько?), но сестра настойчиво вынимала пакеты из большой сумки.
Управившись с первым делом, принималась за второе – делилась городскими новостями:
– Дни губернатора Журавлева сочтены. Высыпали кучу денег на избирательную кампанию, высадили петербургский десант социологов, политологов, но шансов на победу нет, а у соперника – Чемоданова – массовая поддержка от Челябинска до Чесмы. Сам Лебедь поддержал его кандидатуру.
Брат обычно отмалчивался, только покряхтывал в ответ на многословные политические сентенции, и сестра, исчерпав запас красноречия, покидала палату.
Так было бы и на этот раз, но полковник, видимо, испытывал прилив бодрости или ему надоело играть в молчанку.
– А какая нам разница? – вступил он в разговор после очередной порции новостей. – Команда Журавлева завершила первый передел собственности. Теперь начнется второй. Вот и все!
Сестра взглянула на него, как на ребенка, а потом, сдерживая раздражение, тихо спросила:
– Забыл? Все забыл? Смерть деда в тюменской ссылке, расстрел отца в тридцать седьмом и свою странную отставку? Ты думаешь, что коммунисты не повернут вспять?
– Ничего я не забыл – это ты не замечаешь ужаса теперешнего положения. Да, раньше было государство-тюрьма, а теперь ни государства, ни армии – один бардак. Ворочают миллионами воры в белых воротничках…
– Но кроме них есть талантливые, честные люди…
– Какие «честные»! Зарвавшиеся аферисты без чести и совести! Да и…
Не успел полковник закончить, как Андрей Иванович взвился с койки и подлетел к спорщикам:
– Голубушка Анна Петровна! К черту политику, поберегите себя и брата!
Сестра виновато улыбнулась, посидела еще немного, поцеловала Игната Петровича и попрощалась.
Не успела выйти она, как в палату – по-блоковски, «дыша духами и туманами», – впорхнула стройная красавица и, прижимая к высокой груди сверток, решительно направилась к койке Игната Петровича. Тот, еще не оправившись от спора, вспыхнул, загорелся и заботливо подвинул стул. Но «Незнакомка» кивнула на дверь, и они вышли.
– Да-а… – протянул Андрей Иванович. – Видели бы вы, каким был этот старый гусар месяц назад.
– Каким?
– Краше в гроб кладут. А теперь видите? Хоть под венец!
– Ловко вы его аттестовали, – засмеялся я, – но помните: не судите да не судимы будете. С природой, конечно, не поспоришь, но бывают счастливые исключения, и, как сказал поэт, «любви все возрасты покорны».
– Бывает муж у девушки умирает, а у вдовушки живет, – улыбнулся Андрей Иванович. – Эта мадонна заявилась к нему только после того, как миновал кризис, а свалился он из-за нее. Лежит в реанимации, а сестра продает дачу и все спускает на лекарства, питание, на именитых консультантов. Вот так, дорогой мой профессор. Все по Канту: чем выше мораль, тем ниже нравственность.
От простого старичка-боровичка я не ожидал философского поворота в разговоре и не скрыл удивления:
– Простите, а кто вы по профессии?
– Бухгалтер.
– Бухгалтер? Но я и от профессиональных философов редко слышал такое убедительное толкование знаменитого тезиса.
– А вы и не могли его слышать по той простой причине, что философствующие лакеи советского режима, как черт ладана, боялись кантовской формулы, ибо она камня на камне не оставляет от марксистского понимания человека. Эти умные трусы, конечно, порой тосковали по человеческой целостности и неповторимости, но, облученные социализмом, ради пайка несли в студенческие аудитории бред сивой кобылы.
Приподнявшись на локте, я взглянул на собеседника: усталые серые глаза, втянутый рот и вертикальная складка на высоком, «гегелевском», лбу под седой шапкой волос говорили о непростой судьбе.
Андрей Иванович подтвердил мою догадку:
– Я философ. Закончил Московский университет и учился у известного вам Ильенкова.
– Вот так! Но при чем здесь бухгалтерия?