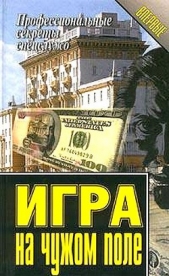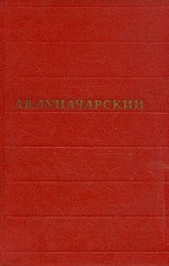Феноменология текста: Игра и репрессия

Феноменология текста: Игра и репрессия читать книгу онлайн
В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века. И здесь особое внимание уделяется проблемам борьбы с литературной формой как с видом репрессии, критической стратегии текста, воссоздания в тексте движения бестелесной энергии и взаимоотношения человека с окружающими его вещами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впрочем, уже читатели «Нью-Йоркера», на страницах которого с 1955 по 1965 год публиковались повести Сэлинджера, не могли не обратить внимания на изменение в его манере письма. Сэлинджер сохраняет ряд прежних достижений, которые столь очевидны в его «Девяти рассказах», но от некоторых из своих приемов он как будто отказывается. Новые тексты утрачивают лаконизм, драматическую динамичность и жесткую структуру. Депсихологизированное пространство рассказов, где жест, предмет, явление вытесняли переживание, представляя его, но не объясняя и не описывая, сменяется совершенно иным пространством — психологическим. В более ранних текстах писатель не разворачивает внутренний мир своих персонажей и все субъективное выносит за скобки.
В поздних рассказах и повестях характер репрезентации внутреннего мира его героя претерпевает существенное изменение. Теперь объектом изображения становятся именно субъективные переживания персонажа, сам строй личности. Писатель создает панораму и перспективу внутренней жизни героя. Более того, внешняя реальность, прежде индифферентная по отношению к человеку, теперь зачастую оказывается пропущена сквозь призму сознания персонажа. Отсюда и кажущаяся композиционная бесструктурность, и ослабление динамики действия.
В повести «Фрэнни» читатель сталкивается с психологическим конфликтом, который захватывает главную героиню, молодую актрису Фрэнни Гласс. Но объектом изображения оказывается не только ее сознание, но и внутренний мир ее приятеля Лейна Кутеля. Само повествование ведется от лица стороннего наблюдателя (третьей и не исключено, что самой важной) фигуры. Возможно, это сам автор, Джером Дэвид Сэлинджер, возможно — кто-то другой. Ответ на этот вопрос мы получим лишь в следующей повести — «Зуи». В ранних рассказах Сэлинджера повествователь предельно обезличен, он не решается выражать свои эмоции по поводу происходящих событий и давать этим событиям какую бы то ни было оценку. События, люди, вещи предстают перед нами увиденными, но намеренно не осмысленными. В повести «Фрэнни» уже с самого начала повествователь заявляет о себе и о своей позиции [306]. Он вмешивается, пытаясь осмыслить и оценить увиденное: «Остальные стояли по двое, по трое, без шапок, в прокуренном, жарко натопленном зальце для пассажиров и разговаривали таким безапелляционно-догматическим тоном, словно каждый из них сейчас раз и навсегда решал один из проклятых вопросов, в которые до сих пор весь внешний, внеакадемический мир веками, нарочно или нечаянно, вносил невероятную путаницу» [307]. Говорящий выступает как всезнающий наблюдатель. По крайней мере, он претендует на эту роль. Впрочем, фокус в повести несколько колеблется: реальность оказывается пропущенной через сознание Лейна и Фрэнни, которые, в свою очередь, тоже ее оценивают. И в этом претензия повествователя на всезнание и объективность достигает высшей точки: он знает то, что думают и переживают его персонажи. Зачастую точки зрения повествователя и его героев оказываются не вполне различимы. В итоге все пространство, вбирая в себя героев и их субъективное восприятие действительности, оказывается своеобразной формулой эмоции повествователя, которая и становится силовой линией, структурирующей все произведение. Несложно заметить, что повесть «Фрэнни» написана отнюдь не в традициях западноевропейской прозы, где внешнесобытийная сюжетная линия занимает главенствующее место.
У Сэлинджера вместо событий, идущих во временной последовательности и соединенных жесткими принципами причинно-следственных связей, перед нами предстает серия сцен, фрагментов, в которой устранены логические переходы. Эта фрагментарность, разорванность письма обнаруживается даже на уровне отдельных фраз и абзацев [308]. Принцип соединения отрывков переносится в сознание читателя, которому предлагается, как и в рассказах, концептуализировать предложенный текст, уклоняющийся от логической завершенности.
Повесть «Фрэнни» построена как развертывание эмоции, а не в соответствии с рассудочно-механистическими принципами формы. Логика событий здесь не принимается во внимание. Событие для Сэлинджера принципиально лишь как форма энергии, которая в нем воплощается и которая является главным объектом изображения. В повестях о Глассах — это эмоция повествователя. Она оформляется несколькими сценами и диалогами: на вокзале, в ресторане и в кабинете директора ресторана. Событие, намеченное в повести «Фрэнни» как основное, центральное (футбольный матч), не состоялось, по крайней мере, для героев; они оказались изъятыми из событийности. Тот же принцип ложится в основу текста «Выше стропила, плотники», где Бадди Гласс так и не попадает на свадьбу своего брата. В повести «Фрэнни» эмоция повествователя контролирует художественный материал, причем сам он это неоднократно подчеркивает.
В рассказах Сэлинджера повествователь, глядя на своих персонажей как бы извне, со стороны, не объяснял, а представлял их эмоции, объективизируя их в виде жестов, поступков, монологов. Эта объективизация эмоционального мира персонажей сохранена в повестях о Глассах, в частности, в повести «Фрэнни». Но теперь она неизменно сопровождается объяснением, взглядом на жест из глубины сознания героя или героини: «—Как я рада тебя видеть, — сказала Фрэнни, когда такси тронулось. — Я так соскучилась! — Но не успела она выговорить эти слова, как поняла, что это неправда. И снова, почувствовав вину, она взяла за руку Лейна и тесно, тепло переплела его пальцы со своими» [309]. Другой пример: «С четверть часа назад, когда им подали коктейль, Лейн отпил глоток, сел поудобнее и оглядел бар с почти осязаемым чувством блаженства, оттого что он был именно там, где надо, и именно с такой девушкой, как надо…» [310]. И еще один пример: «Фрэнни снова откашлялась. Очевидно, она уже полностью отбыла наложенное на себя наказание — слушать с неослабевающим интересом» [311]. В данном случае у читателя Сэлинджера, ориентированного на его предыдущую поэтику, может сложиться впечатление, что повествователь раскрывает свою творческую кухню, обнажая художественные приемы.
Изменяется по отношению к рассказам и характер взаимодействия людей и предметов. В более ранних текстах повествователь всячески подчеркивал их изначальную разобщенность. Предметы и явления у Сэлинджера выглядели не освоенными разумом, антропоцентричной культурой. Они представали перед читателем в своей бесчеловечности, в безразличии по отношению к человеку, его чувствам и стремлениям, и выглядели изолированными и предельно самодостаточными. Внешний по отношению к человеку мир казался абсурдным, не враждебным, но и не принимающим его. В повести «Фрэнни» все выглядит иначе. Создается впечатление, что повествователь, некогда приложивший титанические усилия, чтобы разрушить ложную связь между человеком и вещами, явлениями, событиями, теперь ее старательно восстанавливает. Читатель видит как предмет, так и его переживание. Субъективное восприятие и повествователя, и его персонажей окрашивает все окружающие их предметы: «На ней была шубка из стриженого енота, и Лейн, идя к ней навстречу быстрым шагом, но с невозмутимым лицом, вдруг подумал, что на всем перроне только ему одному по-настоящему знакома шубка Фрэнни» [312]. Лейну предметы кажутся дружелюбными, знакомыми, понятными и близкими. Впрочем, подобное дружелюбие предметы проявляют не всегда: «Он взглянул на шубку стриженого меха, косо висевшую на спинке стула Фрэнни, — на шубку, которая так взволновала его на вокзале чем-то удивительно знакомым, — и в его взгляде мелькнуло что-то, определенно похожее на неприязнь. Почему-то его особенно раздражала измятая шелковая подкладка» [313]. Здесь существенно то, что измятая подкладка характеризует вовсе не качество шубы, а внутреннее состояние самого Лейна, который недоволен тем, как ведет себя Фрэнни. В свою очередь Фрэнни видит таящуюся в предметах враждебность и агрессию: «Фрэнни кивнула и посмотрела на свой сандвич. К горлу волной подкатила тошнота, и она, отвернувшись, крепко затянулась сигаретой» [314]. Что касается самого повествователя, то он в свою очередь также устанавливает связь между собой и предметами, неизменно окрашивая их переживанием.