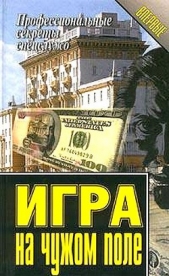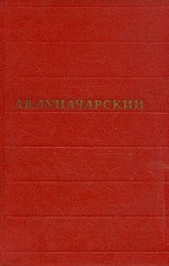Феноменология текста: Игра и репрессия

Феноменология текста: Игра и репрессия читать книгу онлайн
В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века. И здесь особое внимание уделяется проблемам борьбы с литературной формой как с видом репрессии, критической стратегии текста, воссоздания в тексте движения бестелесной энергии и взаимоотношения человека с окружающими его вещами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В рассказе важно, что герой все это знает, но, подобно Симору Глассу, не в силах ничего изменить. Однако безысходность ситуации на самом деле преодолима, и человек способен к перерождению, когда он получает крупицу высшего знания от другого, испытав не поддающееся логическому объяснению чувство родства с ним. Учителем мудрости для сержанта Икс становится девочка Эсме. Получив от нее подарок и письмо, он вспоминает свою встречу с ней, которая произошла еще до того, когда он попал на фронт, и это воспоминание заставляет его поверить в свое возможное выздоровление. Дело здесь не только в том, что герой умилился, видя, как маленькая девочка пытается выглядеть старше и старается говорить как взрослая, хотя у нее это не очень получается [302]. Он интуитивно почувствовал, зачем она так говорит и что стоит за ее словами. На первый взгляд там нет ничего, кроме стереотипного взгляда на вещи, свойственного английскому снобу-аристократу — но аристократизм Эсме, пусть даже комичный, является дисциплиной, сдерживающей чувства [303]. Именно этой дисциплины и не хватает герою, и ненависть к миру берет верх над его «я». Культурная традиция, которой нет у американца, оказывается спасением от внутреннего распада, и именно ее герой будет искать.
Однако следующий рассказ «И эти губы, и глаза зеленые…» иронически парирует вывод предыдущего. Юрист по имени Артур звонит своему другу и коллеге Ли и горестно жалуется ему на неверность своей жены Джоаны. Ли выслушивает эту исповедь несколько смущенно, поскольку легкомысленная жена, о которой идет речь, лежит в это время в его постели. Подобно сержанту Икс, Артур не в состоянии контролировать свои эмоции. Однако трагедийный пафос предыдущего рассказа здесь начисто снят, и рогоносец, истерически уверяющий любовника своей жены в трагизме происходящего, попросту жалок. Конфликт, казавшийся прежде таким сложным, выглядит нарочито примитивным. Никто из героев даже и не помышляет о «пробуждении».
Обманутый муж вешает трубку, однако через какое-то время снова звонит и радостно информирует собеседника (все того же), что его жена вернулась. Но Джоана по-прежнему лежит все в той же постели. Артур понимает, что проявил слабость, открыв другу свою душу, и из боязни показаться смешным, потерять лицо, он придумывает ложь, прибегает к культурному стереотипу, возвращая отношениям с обманувшим его другом прежнюю дистанцию и отчуждение. Впрочем, культурный стереотип (в данном случае — лживая личина) неспособен дисциплинировать чувства и успокоить героя. Дисциплина не приносит результата. Важно в рассказе и то, что истерическое признание не встречает понимания, ибо гипертрофированная эмоциональность не может быть тем полем, где осуществляется единение душ. На обманувшего большее впечатление производит второй звонок обманутого, ибо даже фальшивая маска (хорошая мина при плохой игре) требует, в отличие от примитивной истерики, той самой дисциплины, невероятного волевого усилия, обнажения в собственном сознании той внерациональной сферы, которая позволяет достичь подлинного общения.
«Голубой период де Домье-Смита» сводит воедино темы и мотивы, разработанные в предыдущих рассказах. Главный герой и повествователь — начинающий, но, по всей видимости, талантливый и осознающий свой талант художник. Он остро ощущает собственное одиночество и необходимость существования в мире тотального отчуждения. Заглавие рассказа как нельзя лучше передает это настроение. Здесь очевидна отсылка к «голубому периоду» творчества Пабло Пикассо, имя которого не раз упоминается в рассказе: читатель, хотя бы отдаленно знакомый с европейской живописью, наверняка вспомнит отчужденные, одинокие фигуры на грустных картинах Пикассо «голубого периода». Одиночество, переживаемое де Домье-Смитом, абсолютно невротическое, оказывается следствием нарочито и карикатурно эксплицированного Сэлинджером эдипова комплекса: молодой человек любил свою мать и ненавидел отчима, судя по всему, милейшего человека. Этот мотив будет неоднократно повторяться в рассказе, и читатель с легкостью может его обнаружить в ряде эпизодов и некоторых образах. Де Домье-Смит всеми силами старается преодолеть свою оторванность от людей и исправить мир искусством, силой своего творческого «я». При этом герой предельно нарциссичен (он рисует исключительно автопортреты), и его стремление есть попросту эгоистическое желание подчинить мир себе, навязать ему свое «я».
Он становится преподавателем в заочной школе искусств, что отвечает его цели исправить мир и себя. Однако никаких изменений не происходит до тех пор, пока де Домье-Смит не получает письма от монахини Ирмы с рисунками, которые он находит талантливыми. На его эмоциональное письмо с предложением помощи следует холодный отказ отца-настоятеля продолжать сотрудничество с заочной школой искусств. Герой расстроен, ибо ему показалось, что в Ирме он нашел родственную душу, которой можно помочь, и начинает строить планы дальнейшего общения с ней. Де Домье-Смита останавливает внезапное мистическое озарение, которое он переживает, стоя возле витрины ортопедической мастерской. Он ощущает отсутствие пространственно-временных границ и на мгновение выходит за пределы своего «я». Вряд ли стоит отождествлять видение героя с дзенским «сатори», как это делают некоторые исследователи Сэлинджера. Де Домье-Смит не переживает «пробуждения», ибо для этого требуются усилия, связанные с практикой медитации, которых он вовсе не прилагает. Озарение приходит к нему неожиданно, помимо его воли. И все же, пережив ощущение относительности, условности своего «я», де Домье-Смит отказывается от намерения навязывать миру свою волю и учить Ирму. Он делает шаг к отрешенности от мира. Последние впечатления, которыми герой с нами делится, демонстрируют его превращение из невротичного романтика в бесстрастного созерцателя.
Сборник замыкает рассказ «Тедди», где Сэлинджер как будто декларирует некоторые основы своего мировидения, связанные с дзен-буддизмом и вкладывает идеи, которые ему дороги, в уста мальчика-пророка. Однако мудрость дзен, будучи абстрагированной и навязчиво пропагандируемой непримиримым Тедди, выглядит рациональной схемой, почти тоталитарной доктриной, опровергающей себя. Кроме того, она постулирует отказ от поступка, от духа активного действия, в котором заложено самоотречение и на котором зиждется все лучшее, созданное западной цивилизацией. Дзен, уводящий от мира и подлинных чувств, начинает казаться опасным, фанатичным, подталкивающим человека к самоубийству.
В свете рассказа «Тедди» трагический образ Симора Гласса, обретает новые коннотации, становясь еще более неопределенным. Попытку разрешить эту неопределенность Сэлинджер предпринимает в «Повестях о Глассах», где он продемонстрирует двойственность, заключенную в мудрости дзен.
К моменту выхода первого сборника повестей Сэлинджера «Фрэнни и Зуи» его автор уже получил международное признание в первую очередь благодаря своему знаменитому роману «Над пропастью во ржи», ставшему бестселлером. Новые тексты оказались еще более созвучны мятежному времени и нонконформистским настроениям американской молодежи. Популярность Сэлинджера значительно возросла: книга «Фрэнни и Зуи» не просто вошла в список бестселлеров, но в какой-то момент возглавила его. Претензии и упреки отдельных рецензентов утонули в море восторженных откликов читателей, известных критиков и литературных мэтров. Вскоре Сэлинджер будет зачислен в разряд классиков американской литературы и станет объектом изучения академического (университетского) литературоведения. Появятся монографии и сборники научных статей, предлагающие интерпретации его текстов [304]. Словом, с Сэлинджером произойдет все то, чего он больше всего опасался и чего не смог избежать. Более того, всегда иронизировавший над последователями Фрейда и французскими экзистенциалистами, писатель сам превратился в предмет дискуссий экзистенциалистских и фрейдистских критиков [305].