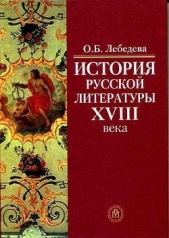Санскрит во льдах, или возвращение из Офира

Санскрит во льдах, или возвращение из Офира читать книгу онлайн
В качестве литературного жанра утопия существует едва ли не столько же, сколько сама история. Поэтому, оставаясь специфическим жанром художественного творчества, она вместе с тем выражает устойчивые представления сознания.
В книге литературная утопия рассматривается как явление отечественной беллетристики. Художественная топология позволяет проникнуть в те слои представления человека о мире, которые непроницаемы для иных аналитических средств. Основной предмет анализа — изображение русской литературой несуществующего места, уто — поса, проблема бытия рассматривается словно «с изнанки». Автор исследует некоторые черты национального воображения, сопоставляя их с аналогичными чертами западноевропейских и восточных (например, арабских, китайских) утопий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впервые в нашей философский традиции появляются сочинения, рассматривающие человека как проблему: В. И. Несмелов, «Наука о человеке»; Н. А. Бердяев, «Смысл творчества»; Л. П. Карсавин, «О личности». Эти сочинения можно классифицировать как русскую философскую антропологию.
Было, однако, обстоятельство, отличавшее русскую традицию от западноевропейской. На Западе между мыслью, сколь бы сложной она ни была, и рутиной обыденного существования находилась ис — торически развитая соединительная ткань в виде гражданских учреждений — то, что именуют цивилизацией. Этим обеспечивалась совместность высоких достижений культуры и ее носителей и абсолютно не связанных с ней, чуждых ей слоев населения. Цивилизация как бы уравновешивала эти две сферы национального бытия. Полагаю, в частности, этим объясняется, почему культура могла бытовать в своей собственной сфере; почему социальная мысль и социальная практика Запада развивались параллельно, изредка пересекаясь: цивилизационная система не давала и мысли исчезнуть и не допускала ее быстрой реализации, которая привела бы к разрушению всех сложившихся гражданских обычаев.
В России не было действующей системы, гражданских учреждений, между мыслью и обиходом зияла пропасть — именно там и происходило соединение мысли и каждодневности, разумеется, в самых нелепых и примитивных формах — не было, повторяю, исторически сложившегося регулирующего механизма.
Поэтому, например, идея нового человека в России не осталась, как на Западе, идеей, которая медленно, но неуклонно влияла бы на обыденность (не так, как этого хотели, может быть, сами создатели идеи, но она и не пропадала совсем, лишь приспосабливаясь к действующим принципам жизни, к цивилизации); в России эту идею горячо принялись реализовывать в самых невероятных формах, как и бывает, когда тонкое умственное построение пробуют пересадить в материальную жизнь. Этим я объясняю, почему, например, всерьез обсуждался вопрос о скрещивании обезьяны и человека; о выработке в людях «социалистических инстинктов»; почему из разных представлений о человеке, бытовавших в России, расхожими оказались самые немудрящие, а среди них те в первую очередь, которые из всего, что есть в человеке, опирались лишь на коллективистские навыки — именно потому, что эти навыки допускали массовый счет, не требовали скрупулезной, тонкой индивидуализации.
Такая практика (большевики внедрили ее, она с их именем связана как широчайшая, массовая) отбросила страну назад, к временам варварским, доцивилазционным, но с такой же обоснованностью можно говорить, что эта практика лишь воспроизвела доцивилизационные условия жизни народа и потому не является новой, «революционной» (какой она сама себя видела и характеризовала), но старой, «контрреволюционной», архаической, вогнавшей страну в тот же безвыходный круг развития, из которого она пыталась вырваться, если видеть попытку этого в острой критике национального исторического пути с времен Чаадаева вплоть до начала XX столетия; в крушении монархии весной 1917 г.
Ну и, конечно, если нет соединительной ткани (гражданских учреждений, цивилизации), всякое социальное действие кажется возможным, никаких преград у него нет; между воображаемым и действительным стоит лишь время, но и его легко свести на нет — вот откуда пафос немедленности, мгновенности, скачка, причем даже там, где сразу ничего сделать нельзя, ибо природа работала миллионы лет, — в тонком внутреннем мире человека. Но и тут нашелся выход: «Мы не можем ждать милостей от природы», она не дает добром, возьмем силой.
Действительно, ждать не стали, принялись попросту крушить эту тонкую материю — мотив сокрушения, разрушения, уничтожения всего и вся сделался одним из популярнейших в поэзии и прозе 20–х годов. На нем построена городская лирика молодого А. Платонова. В упоминавшемся романе Вс. Иванова «У» есть слова:
«Нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи — все равно, но чтоб мгновенно» (с. 190).
Мотив быстрой (а в идеале — мгновенной) переделки человека, получение другой натуры, подобно тому, как из руды получают металл, — вот цель новой власти. Сравнениями того, что происходит в человеке, с процессами фабричными, индустриальными переполнены проза и поэзия 20–х — начала 30–х годов, преобладают, разумеется, аналогии с металлом: «Железный поток», «Как закалялась сталь», «Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье» (Маяковский, «Хорошо»), «Ужас из железа выжал стон,/По большевикам прошло рыдание» (Маяковский, «В. И. Ленин»).
Эти и другие сравнения, вольно или невольно для авторов, построены на упрощении человека, на мысли о нем как о явлении незамысловатом, но потому и можно так обращаться с ним. «Писатели — инженеры человеческих душ»; душа — аналог производству, тогда и любой человек — легко заменимая деталь и т. д. Показательно, что одним из частых сравнений было металлургическое производство (традиция очень устойчивая, и еще в 80–е годы в многих театрах СССР шла пьеса «Сталевары», своего рода образное продолжение «Чудесного сплава» В. Киршона и «Черной металлургии» А. Фадеева. Персонаж Вс. Иванова говорит:
«Ученой, грамотной дряни, зря пропадающей, много, думается мне, в центрах, где пропадает она без толку и без счастья. Мы ее хватаем — и в домну!..» (с. 190–191).
В домну, в переплавку, значит, уничтожение индивидуальной формы, превращение в неразличимый элемент однородного целого — хорошо знакомое из литературной практики XVIII, XIX вв. содержа — ние образности. То, что в литературе 20–х и последующих годов распространилось в качестве так называемого «производственного романа», черпало не только из «социального заказа», но из психологии, гносеологии тогдашнего мира, упрощенных и упрощаемых взглядов на человека, его место в бытии, на общество.
В такой умственной атмосфере бытовало убеждение, что человеческая натура очень податлива на переделку и при целенаправленных действиях от нее можно добиться чего угодно. Любая подлость исправима трудом и правильно используемым искусством, рассуждает герой романа «У» (с. 214). Вскоре появится пьеса Н. Погодина «Аристократы» — о том, как на строительстве Беломорско — Балтийского канала труд исправил прежних уголовников — рецидивистов — сказка, в которую, кажется, поверил сам автор. Во всяком случае, литературная традиция «переделок» складывалась. А. С. Макаренко пишет дилогию «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» и тоже рассказывает о «переделке» бывших беспризорных подростков в сознательных граждан нового общества. Вс. Иванов раньше многих романистов заметил это направление:
«Передают вот, на Урале произошел небывалый случай перерождения, благодаря игре, подряд, конечно, всего репертуара труппами академических театров. Целый город изменил совершенно свои вкусы и привычки. Ни водки, ни склок, ни сплетен, ни даже матерного слова!» (с. 203).
Цель таковых переделок/перерождений — новый человеческий тип, во всех отношениях совершенный (физически цветущий, нравственно безупречный, свободный от чувств, мешающих победе нового строя), но прежде всего абсолютно податливый любым манипуляциям, которые по какой‑то причине окажутся необходимы властям. На таком фоне, в контексте таких настроений следует читать «Собачье сердце» М. А. Булгакова.
Эту книгу я рассматриваю содержащей утопические мотивы, что, по моей гипотезе, свойственно целой группе произведений русской литературы 20–х годов. Один из утопических мотивов — экспериментальное выведение «нового человека». Можно обнаружить связи «Собачьего сердца» с «Островом доктора Моро» Г. Уэллса, но только для того, чтобы выявить радикальное несовпадение. В романе Уэллса опыты заканчиваются индивидуальным крахом героя. В книге Булгакова рассказано о едва ли не глобальном эксперименте, социоантропологический крах которого писатель художественно предсказал.
«У — у-у — у-у — гу — гу — гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал» (с. 175).