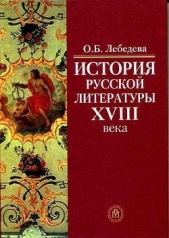Санскрит во льдах, или возвращение из Офира

Санскрит во льдах, или возвращение из Офира читать книгу онлайн
В качестве литературного жанра утопия существует едва ли не столько же, сколько сама история. Поэтому, оставаясь специфическим жанром художественного творчества, она вместе с тем выражает устойчивые представления сознания.
В книге литературная утопия рассматривается как явление отечественной беллетристики. Художественная топология позволяет проникнуть в те слои представления человека о мире, которые непроницаемы для иных аналитических средств. Основной предмет анализа — изображение русской литературой несуществующего места, уто — поса, проблема бытия рассматривается словно «с изнанки». Автор исследует некоторые черты национального воображения, сопоставляя их с аналогичными чертами западноевропейских и восточных (например, арабских, китайских) утопий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чаянов первым из русских писателей — утопистов нашел причину исторических несчастий отечества — во всеподавляющей, безгранич — ной силе государства, так увеличившегося, так всё собою заполнившего, что жители громадной страны сделалось слугами государственными, превратилось в орудие государственной воли, тогда как, пишет Чаянов, именно государство — инструмент, посредством которого удовлетворяются интересы каждого отдельного лица. Всякая иная роль государства архаична, свойственна исторически отжитым фазам развития человечества.
Среди таких архаических функций власти Чаянов считает и борьбу с политическими противниками. Во время экскурсии по Москве 1984 г. герой проезжает хорошо известными местами. «Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось: «Метрополя» не было. На его месте был разбит сквер и возвышалась гигантская колонна». «Дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский, Милюков» (с. 170–171).
Иными словами, последовательно реализовано представление о будущем как эпохе, когда всевластие государства исчезнет из практического обихода и останется лишь в исторической памяти народа. Раз так, нет необходимости в строгом и всепроникающем политическом централизме, свойственном России последних столетий.
В руки Алексею попадает учебник по истории. «Пространно излагалась история Яропольской волости, затем история Волоколамска, Московской губернии, и только в конце книги страницы содержали повествование о русской и мировой истории» (с. 179–180).
Что ж, если исчезает государство как сила тотального подчинения, нет нужды в истории государства, разве что в качестве объекта архе — или историографии, предмета научных занятий. Зато настоящее значение приобретают знания о том месте, где родился человек, где живет, работает, — о месте живом и конкретном, а не мертвом, отвлеченном, каким, в сущности, и было, полагает Чаянов, государство Российское и его писаная история. Жизненный смысл в «Крестьянской утопии» несет отдельный человек, действующий заодно с другими не по принуждению, а по свободному выбору. Вот почему центральная власть здесь не политическая, а только техническая сила, координатор.
В соответствии с этим писатель приходит к мысли, «что для познания эпохи необходимо изучить идеи и взгляды не знаменитых властителей дум, а рядового обывателя», и это убеждение привело автора «к связкам обыденных писем, к тетрадям нехитрых дневников» (с. 226).
Письма и дневники рядовых людей в качестве документа эпохи! Чтобы это сбылось, необходимо избавиться от страха перед полицейским сыском, исполниться доверием к жизни вокруг, сознанием цен — ности всякого отдельного существования — вот что читается в этом образе.
На индивидуальной ценности происходящего основана в утопии Чаянова и жизнь всего мира к концу XX столетия. «Прочитав изложение событий своей эпохи, Кремнев узнал, что мировое единство социалистической системы держалось недолго<…>Каждый элемент, составлявший единство, зажил особо, «различной по укладу политической и хозяйственной жизнью»» (с. 180).
И эта деталь не имеет аналогов в традициях русской литературной утопии, поскольку едва ли не все авторы XVIII и XIX столетий воображали грядущее эпохой безраздельного, всемирного господства России. Чаянов первым представил совсем иное развитие, и его утопия есть явление небывалое: прежние усовершенствовали наличный порядок, исправляли его дефекты, нередко попросту меняя знаки его реальной истории. Чаянов нарисовал утопический мир несопоставимо со своими литературными предшественниками: в его основу положены принципы, которые до тех пор никогда не рассматривались русскими утопиями.
«В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия, каждый работник — творец, каждое проявление его индивидуальности — искусство труда» (с. 183).
Как бы ни оценивать эти взгляды, несомненно, что ни один русский утопист так не воображал грядущего. Сельское хозяйство кажется Чаянову идеальной областью приложения творческих способностей индивида, а промышленный капитализм классифицируется «не более как болезненный, уродливый припадок… а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства» (с. 185).
От страны крестьянской утопии у Алексея остались такие впечатления:
«Но этот окружающий мир с капустными городами, синими далями и красными гроздьями рябины уже не был чужд ему.
Он почувствовал с ним новую, драгоценную для себя связь, близость даже большую, чем к покинутому социалистическому миру…» (с. 193).
Понятно: что же ближе человеку, как не сам человек? В мире же, где очутился «брат мой» (в этом случае «брат» уместен, это, по существу, каждый из нас, ближний, которому следует пожелать того, чего желаешь себе), именно человек- предмет заботы, интереса, внимания, чего не было (Чаянов предполагал, согласно его образной логи — ке, и не будет) в социалистическом мире. Вот почему от него хотелось избавиться, и метафора утопии Чаянова построена, как можно судить, на невысказанной в отчетливых понятиях тоске оттого, что нужно вернуться к прежней жизни. Может быть, этим обстоятельством разъясняется неотчетливая оптика городского пейзажа в начале повести, заканчивающейся тем, что героя подозревают в злоумышлении против утопической страны, и хотя он оправдан и обвинения сняты, он покидает место своего недолгого заключения с тяжелым сердцем:
«Сгорбленный и подавленный происшедшим, он медленно спускался с лестницы веранды, идя один, без связей и средств к существованию, в жизнь почти неведомой утопической страны» (с. 208).
После этих слов автор написал: «Конец первой части».
Сколько мне известно, вторая не была написана, и финальные строки можно истолковать так: неведомая утопическая страна — не только Москва/Россия 1984 г., но и Россия той поры, когда создавалось «Путешествие». И не от утопии 1984 г. стеснилось сердце героя, а от не высказанного автором ощущения, что небезоблачным будет грядущее реальной, исторической России, из которой так хорошо унестись туда, где побывал «брат мой»; откуда не тянет вернуться, но где, увы, никому не суждено жить.
С этой стороны утопия Чаянова неожиданно сближается с утопиями Замятина и Козырева; и ее можно классифицировать как антиутопию, учитывая упомянутый выше двойной утопизм: написанная в 1920 г., она изображает случившееся с героем в 1921 (1–я утопия), в результате чего он попал в 1984 г. (2–я утопия). Таким образом, 1984 год противостоит 1921–му, и мир той, грядущей поры явно разногласит миру этому. Утопия же 1921 г., в отличие от утопии 1984–го, является свернутой, с еще неопределившимися перспективами, однако — вот откуда мрачные тона и в окончании повести, и в городском пейзаже начала — велика вероятность, что перспективы не сулят ничего радостного.
Поскольку 2–я часть задумывалась автором, даже если отнестись к словам «конец 1–й части» как к художественному приему, имеющему целью ввести читателя в заблуждение, но поскольку все же не невероятно продолжение, то его можно было бы объяснить, как однажды я пробовал объяснить отсутствие 2–й части в «Мертвых душах» Гоголя: реальность России не давала поводов вообразить исправление Чичикова, благодетельный поворот в его судьбе, избавление страны и народа от засилья мертвых.
Нечто похожее могло произойти с воображением (не с логикой, не с понятиями) Чаянова: он собирался найти выход и для «брата Алексея», и для реальности, из которой тот попал в 1984 г. Ничего
не удалось, реальность в который раз оказалась сильнее благих намерений, но странное дело — она развивалась так, словно сбывалась утопия: многое, о чем грезили русские утописты, превратилось в каждодневный быт, за одним разве исключением — осуществленная утопия никому не принесла радости, вопреки всем литературным проектам. Вот об этом‑то — о несчастье утопии, перешедшей из книги в действительность, — и предупреждали русские литературные утопии XX столетия. По крайней мере, две из них, «Мы» Замятина и «Путешествие» Чаянова (обе, кстати, 1920 г.), назвали — если не придавать слову буквального значения — и причину несчастья: человек остается средством в руках тотальной государственности. Замятин об этом прямо, а Чаянов, изображая противоположный порядок. Однако главная причина, найденная писателями, свидетельствует о существенных переменах в сознании русских: человек становится объектом, тогда как прежде таковым рассматривали народ, государство, человечество. Прежнее отношение еще имеет силу, но рядом появляется другое, хотя — покажет опыт следующих десятилетий — оно пока не влияет на перемену действительности. Повлияет ли, кто знает?