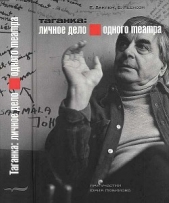Театр и ритуал (ЛП)

Театр и ритуал (ЛП) читать книгу онлайн
Гротовски родился в 1933 году. В 1950-м он уже студент краковской Высшей театральной школы; в 1954-м проходит стажировку в Москве, где изучает по источникам глубоко заинтересовавшего его Станиславского. С 1959 года в течение пяти лет руководит маленьким студийным "Театром 13 рядов" в небольшом городке на западных землях, а с 1965 года начинает работу вместе с небольшой группой актеров в организованном им Театре-Лаборатории, проводя занятия и показывая спектакли в пространстве "театра одной комнаты". Театр-Лаборатория вскоре становится известным в Европе, потом в Америке, потом, что называется, по всему свету.
Три великих спектакля Гротовского «Акрополь», "Стойкий принц" и "Apocalypsis cum figuris", воплощенные его «небывалыми» актерами и принесшие ему всемирную славу, потрясали зрителей невиданной интенсивностью и исповедальной глубиной актерского существования (но не "игры") в спектакле, который, в свою очередь, происходил перед лицом зрителя- свидетеля как событие (но не как зрелище для публики).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К чему это приводило в результате? То, что актер рассказывает какую-то историю или что-то отыгрывает, нельзя признать действием, совершающимся в настоящем времени, это не "здесь и сейчас".
Безусловно, какое-то действие, какой-то акт актер должен совершить. Но этот акт должен иметь смысл полного раскрытия самого себя. Я бы прибег здесь к старомодному, но зато точному определению: акт исповеди. Этот акт достижим исключительно на почве личной собственной жизни — это тот акт, который обдирает с нас оболочку, обнажает нас, открывает, выявляет — выводит на свет… Актер тут должен не играть, а зондировать сферы своего опыта, как бы анализируя их телом и голосом. Он должен отыскивать в себе импульсы, всплывающие из глубины его тела, и с полной ясностью сознания направлять их к тому определенному моменту, когда он должен совершить в спектакле эту исповедь, и к тому определенному сценическому пространству, где это должно произойти. В момент, когда актер достигает акта, он становится "феноменом hic et nunc" ("здесь и сейчас"); это не рассказ и не творение иллюзии, это — время настоящее. Актер открывается, он отдает, вручает нам то, что совершается сейчас, и то, что еще должно совершиться; он открывает себя. Но он должен уметь делать это каждый раз заново. Возможно ли это? Невозможно без ясного видения, потому что иначе, как я уже говорил, бесформенность и хаос неизбежны. Невозможно без всесторонней и полной подготовки, иначе актеру пришлось бы беспрерывно задавать себе вопрос "что я должен делать?". А думая "что я должен делать?", он утерял бы самого себя. Нужно, следовательно, это "hic et nunc" основательно подготовить. Именно это мы сегодня называем партитурой.
Но, двигаясь путем структурных построений, надо добиться непременной подлинности самого акта — в этом-то и заключается противоречие. Очень важно понять, что само существование этого противоречия логично. Не следует стремиться избегать противоречий — напротив, именно в противоречиях заключена суть вещей.
Что же мы видим, анализируя пресловутый первобытный ритуал, ритуал древних и диких народов? Что он в себе заключает? Для европейца — стороннего наблюдателя — это спонтанность, но для того, кто в нем участвует, — это точная, выверенная структура: литургия. Здесь существует изначальный лад, определенная, заранее подготовленная линия, исходящая из коллективного опыта — словом, весь тот порядок, который и является его основой; а уж вокруг этой выверенной литургии выстраиваются вариации. Следовательно, заранее подготовлено и вместе с тем — естественно-стихийно. Только предварительная подготовка позволяет избежать хаоса. Так что, если мы хотим провести определенную линию человеческого поведения, которая могла бы служить актеру отправной точкой, как говорил Станиславский, надо овладеть морфемами этой театральной партитуры, подобно тому, как ноты служат морфемами партитуры музыкальной. Они не жесты, и вообще не те элементы, которые можно зафиксировать извне (в последнем случае все всегда было бы неточно). Позвольте привести пример, достаточно обыденный, но, благодаря своей тривиальности, невероятно поучительный. Рядом со мной, на той же улице живет сосед, которого я встречаю каждое утро — мы оба спешим на работу. Я снимаю шляпу, говорю «здравствуйте», и каждый из нас идет дальше своей дорогой. И так ежедневно, и это уже стало фрагментом определенного рода партитуры. Она возникла автоматически, мы хорошо изучили наши жесты, мы знаем, что будет сказано именно «здравствуйте», и хотя в действительности детали и оттенки жестов и слов, и тон, и голос будут каждый день разными — суть происходящего остается неизменной. Следовательно, не вокальные ноты, не внешние жесты составляют морфемы актерской партитуры, а что-то иное. Можно стремиться, как делал Станиславский, к открытию этих морфем в физических действиях, глубоко укоренившихся в мире чувствований человека. Под конец жизни Станиславский открыл, что фиксация чувств невозможна, потому что они не зависят от нашей воли: мы не хотим любить, но мы любим — тут уж ничего не поделаешь. Чувства не зависят от нашей воли, а значит, нельзя воспроизводить их сознательно, можно только пыжиться и пытаться выдавить из себя необходимый "вид чувствования", что, в общем, и делает большинство актеров. Но в конечном счете, не они суть подлинные чувства, и не они суть морфемы.
Мы считаем, что морфемами являются импульсы, подымающиеся из недр тела навстречу тому, что снаружи. Я сказал, из недр тела; речь здесь идет об определенной сфере, которую по типу затаенной внутренней мысли я определил бы как затаенное внутреннее существование, как нечто, обнимающее все побудительные мотивы внутренних сфер тела и сфер души. Но в практике мы говорим преимущественно о «нутре», о "недрах тела".
Существует импульс, который стремится «наружу», а жест — только его завершение, финальная точка. Обычно, когда актер хочет «вывести» какой-то жест, он его выводит по линии, начинающейся от ладони. Но в жизни, когда человек находится в живом общении с другими людьми, импульс зарождается в недрах тела и только в последней фазе появляется жест руки, который и служит как бы конечной точкой: линия идет от внутреннего к внешнему. В живом общении с окружающими возникает импульс, мы его получаем, в ответ рождается отзыв. Это и есть импульсы — брать и отзываться; давать или, если хотите, реагировать.
Итак, вначале существует партитура живых импульсов, которую, в свою очередь, можно перевести в систему знаков; по сути дела мы вовсе не отказались от идеи знаков в театре. Существует, однако, известная разница между поведением человека на улице и произведением искусства. В завершенной стадии произведение искусства должно избегать всего, что случайно, оно должно обладать определенной структурой, и в этом смысле поиск структуры неизбежно сводится к артикулированию, к обозначению наплывающих из жизни импульсов. Это — объективная стадия. В чем заключается разница: «объективный» — «субъективный»? Путем калькуляций нельзя прийти к пониманию сути этой разницы, но через систему поведения можно. Режиссируя, я могу сказать актеру: «верю» или «понимаю». В процессе поисков живых импульсов, этой линии, этого высвобождения "из себя", я чаще прибегаю к «верю» или "не верю". В свою очередь, когда на первый план выдвигается проблема структурализации, я пользуюсь чаще всего «понимаю» или "не понимаю". «Понимаю» или "не понимаю", само собой разумеется, касается вовсе не абстрактной стороны. "Не понимаю" значит: может быть, это и существует, так оно и есть, но только для тебя. Если же оно начало существовать также и для других, тогда оно стало означающим: сам не думая об этом, ты призвал знаки. Если же я говорю «верю», значит, сохранена линия жизни — линия живых импульсов. Однако, я заметил, что когда актер действительно начинает искать на свой страх и риск, он ощущает потребность ввести эти поиски в некие рамки, определить им место в общей подготовке спектакля. В определенной фазе работы — а она достаточно длительна — все актеры выполняют наметки, эскизы действий, результаты которых могут быть сориентированы ими самими, не оставаясь вместе с тем без связи с будущим направлением спектакля; свою собственную жизнь, свой опыт актер сознательно направляет по определенному руслу, оперируя вместе с тем остальными актерами как неким подобием экрана, на который он отбрасывает образы — лики собственной жизни. Когда этот эскиз стал живым, в нем отыскиваются главные, принципиально существенные опорные точки, импульсы, которые можно было бы «записать», но, конечно, не карандашем, а телом. Когда они уже записаны, актер может повторить их множество раз, отбрасывая все, что несущественно; так возникает условный рефлекс, опирающийся на записанные опорные точки, а сам такой эскиз уже являет собой небольшой фрагмент спектакля. Как правило, это намного более интересно, чем разного рода постановочные изыски.
Однако, работа, приостановленная в этой фазе, была бы бесплодна. Самое важное, чтобы актер на основе того, что им уже найдено, мог возобновить свое исповедальное действие — здесь и сейчас, в настоящем времени. В этом заключена самая большая трудность. Актер уже обрел нужную линию — партитуру живых импульсов, мощно укоренившуюся в его глубинном бытии, в его «нутре»; обрел то, что может служить исходным пунктом, стартовой площадкой, а затем, уже на этой почве — теперь, здесь, сейчас, это должно исполниться: он должен совершить свою личную исповедь, идя до самой последней границы, вплоть до того, что может даже возникнуть ощущение неправдоподобности. Он должен исполнить то, что мы называем актом, актом во всей его полноте. Трудно объяснить, где и в чем лежит путь к подобного рода акту, к подобного рода актерскому действию; это очень сложно. В "Стойком принце" это происходит в исполнении Ришарда Чесляка, в «Акрополе» — в финальной сцене, когда узники чередой движутся в газовую камеру (в последнем случае акт охватывает целую группу людей, но он несомненен). Если акт происходит, то актер, дитя человеческое, преступает границу состояния той половинчатости, на которую все мы сами обрекли себя в повседневной жизни. Тогда исчезает барьер между мыслью и чувством, душой и телом, сознанием и подсознанием, видением и инстинктом, сексом и мозгом; актер, совершив это, достигает полноты. И «после» того как он оказывается способен воплотить этот акт до конца, он ощущает себя куда менее усталым, чем «до», потому что он весь обновился, обрел исконную неразделенность; и тогда в нем открываются новые истоки энергии.