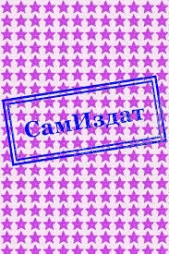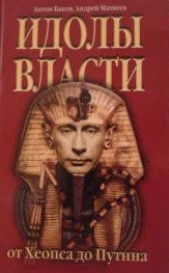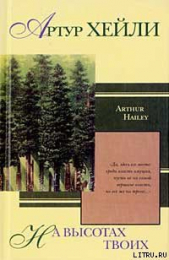Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не забыт и «язык родных осин»: стихотворение «О правителях» построено на противостоянии двух голосов, двух героев — Хлебникова и Маяковского. Текст с самого начала вводит образ Председателя Земного Шара, автора «Смехачей», ясновидца и сумасшедшего, схватившего планету, как коробок спичек, «чтоб дальше и больше хохотать», вычисляя ее судьбу; человека, воскликнувшего, что он «никогда, никогда, нет никогда не будет Правителем!»; поэта, звонившего в Зимний дворец и выдававшего себя за ломовика:
<…>
А заканчивается стихотворение прямым и презрительным описанием автора грандиозных поэм «Хорошо!», «150 000 000» и «Владимир Ильич Ленин»:
Уже здесь Набоков демонстрирует неплохое знание и «Облака в штанах», и «Кофты фата», и обстоятельства жизни и смерти Маяковского, и специфику рифмовки и «лестнички», и даже финал — легендарное хлебниковское «и так далее». Маяковский, натягивающий посмертные рифмы на имена Сталина и Черчилля, — с исторической точки зрения, такая же мифологема, как и образ внеисторического Хлебникова. Но сейчас нам важно не это. Набоков берет обоих поэтов как персонифицированных носителей взаимоисключающих начал — свободы и самоубийственного рабства литературы. Символической геометрии шара и иглы напрямую в стихотворении нет, но оно может быть понято только с их учетом.
Граммофонный голос власти, «His Master’ s Voice», прозвучит в рассказе «Double Talk» (впоследствии названном «Conversation Piece, 1945»), в русском переводе — «Групповой портрет, 1945». Открещиваясь от своего тезки в стихотворении «О правителях», что дается ему легко, он обречен на полного тезку, невидимого экзистенциального двойника, голос-тень, избавление от которого — невероятным усилием — возможно только (!) через смех («Истребление тиранов»).
Обратимся к вставному эпизоду «Адмиралтейской иглы». Как всегда, он любопытен своей несуразностью. Автор письма спорит с автором романа — Солнцевым. Спор с Солнцем — донабоковский еще сюжет: «Так затевают ссоры с солнцем» (Пастернак). Еще один яростный, язычески-громогласный спорщик с Солнцем-Отцом — Маяковский. Он-то и является всегдашним отрицательным двойником Набокова, негативным дубликатом, дьявольски-неотвязным тезкой — Владимиром Владимировичем. Это тоже не ново. Теневой фигурой протагониста Маяковский появлялся и в «Зангези» Хлебникова, и в образе ротмистра Кржижановского «Египетской марки» Мандельштама, и зловещей тенью Комаровского пастернаковского «Доктора Живаго», и наконец — в «Пнине» самого Набокова. Но никто не воевал с революционным трибуном столь яростно и лично, как Набоков. Двойники бывают или из прошлого, или из будущего. Маяковский — из прошлого.
Автор письма в «Адмиралтейской игле» не желает, чтобы его убивали в одноименном романе: «А в конце книги ты заставляешь меня <…> погибнуть от пули чернокудрого комиссара». Сам Набоков здесь спорит с человеком, который уже ответил «не быть!» на извечный гамлетовский вопрос, — с Маяковским. И небытие это восторжествовало с момента выбора ложного пути, а не самоубийства, т. е. задолго до 14 апреля 1930 года. Но в какой-то момент отличение от своего двойника дается с трудом. Налет «фасонистой лжи» различим в дореволюционные годы и в самом авторе письма (читай: в Набокове): «одевался под Макса Линдера», стихи сочинял «всхлипывая и мыча на ходу», поэзия его была «заносчивой», с «тяжелым и туманным строем чувств и задыхающейся, гугнивой речью». Безоговорочное отличение и отталкивание происходит осенью 1917 года и определено большевистским переворотом.
Нелепый эпизод начинается с высокой трагедийной ноты: «И все-таки я буду, как Гамлет, спорить, — и переспорю Вас». И это пари — на подмостках парикмахерской. Очень странное место для решительного, гамлетовского объяснения. Зачастую комментаторы Набокова, особенно увлекающиеся возвышенными гностическими реминисценциями, забывают о главном условии им поставленном: космическое и умозрительное нередко теряют буквы «с» и «з». Это и есть особый дар — помнить о комическом и уморительном, даже получая приглашение на казнь. Итак, интересующий нас, уморительно-умозрительный эпизод: «Занимая свое место в кинематографе „Паризиана“, Леонид кладет перчатки в треуголку, но через две-три страницы он уже оказывается в партикулярном платье, снимает котелок, и перед читателем — элегантный юноша с пробором по самой середке маленькой, словно налакированной головы и фиолетовым платочком, свесившимся из карманчика. Помню, действительно, что я одевался под Макса Линдера, и помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: „Мальшик, пашисть!“». Парикмахерская — тщательно скрываемый Набоковым литературный топос. Здесь герои придают себе благообразный вид, авторы — самым неблаговидным образом проверяют себя на зрелость. Набоков признавался, что на Касбимского парикмахера «Лолиты» он потратил месяц труда. В зеркале парикмахерской отражается не герой, а сама литература. Первое лирическое отступление — стихотворение Владимира Маяковского «Ничего не понимают» (1913):
Шкловский считал, что начало этого стихотворения является репликой одной из картин Ларионова из серии «Парикмахеры». О нем известно, что при первой публикации в запрещенном «Рыкающем Парнасе» оно называлось «Пробиваясь кулаками», и еще, что его перевел на церковно-славянский Роман Якобсон («Къ брадобрию приидохъ и рекохъ…»). И то, и другое существенно. Старая редиска выхожена старым заветом Козьмы Пруткова «Смотри в корень».
Один художник, поэт, приходит к другому — парикмахеру, тупейному художнику. С легкой руки Лескова у нас на слуху это слово, идущее от французского корня «тупей — взбитый хохол на голове», — объясняет Даль. Таким образом, выдернутая редиска подобна взбитому хохлу, тупею. Это тупая голова. Таким же тупым и непонимающим оказывается и парикмахер. Просьба причесать уши означает многое. Во-первых, это спокойная и деловая просьба о понимании и признании, впрочем, в форме совершенно издевательской. Во-вторых, «Откройте уши» — это призыв стихотворения Маяковского «Братьям писателям». «Заушайте, заушайте старых идолов, невежды», — так встретил Маяковский Бальмонта, перефразируя его строки «Совлекайте, совлекайте с старых идолов одежды». Заушать — давать пощечины, пощечины общественному вкусу, «пробиваться кулаками», «чесануть» кого-то, ударить значит действовать как пушкинский Руслан при встрече с огромной головой. Заушины производятся единственным доступным поэту оружием — остроумным словом, словом-иглой: «мне уш-ИГЛА-дкий парикмахер». Якобсон слово «хвойный» переводит как «игъливъ». То есть в самой просьбе о причесывании ушей звучит оплеуха-игла, заушина самому парикмахеру (клиент всегда прав). «Причешите мне уши», — просит поэт. Вл. Даль приводит церковное выражение «слух чесать» и объясняет: «угождать кому, льстить слуху». Якобсон потому и берется переводить, что церковно-славянские значения уже вписаны в плоть авангардного текста. И это не просто скандал в общественном месте. Романтическая персонажная схема стихотворения включает трех персонажей: тупейный художник, поэт и толпа. Парикмахер — поэтический антагонист главного героя. Тупейный мастер «хвойно» воет, что поэт «сумасшедший», тронутый и «рыжий», т. е. шут, клоун, остряк. Улюлюкающая «толпа» и есть огромная голова-шар (Schar). И эту надутую Голову новый Руслан протыкает пушкинской же Иглой. Сдуваясь, шарик пищит и мотается из стороны в сторону. При таких обстоятельствах разрешается пушкинский спор о Поэте и черни.