Фёдор Достоевский. Одоление Демонов
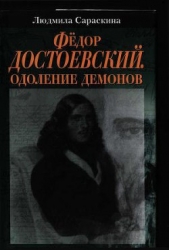
Фёдор Достоевский. Одоление Демонов читать книгу онлайн
«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.
Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с H.A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов ми|х>ной литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда пи в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H.A. Бердяев).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так же как Достоевский, Иван Петрович «сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что ему «удастся написать какую‑нибудь большую, хорошую вещь».
Так же как Достоевский, Иван Петрович работал в системе долга, а значит, всегда был на мели — монологи героя цитировали автора, повторяя один и тот же знакомый мотив: «Беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все‑таки даст мне хоть сколько‑нибудь, увидя в своих руках добычу, — хоть пятьдесят рублей, а я давным — давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги!..»
Так же как Достоевский, Иван Петрович мог написать повесть «в две ночи», а потом «в два дня и две ночи» написать еще три с половиной листа по особому журнальному заказу.
Так же как Достоевского, критики упрекали Ивана Петровича в том, что его сочинения «пахнут потом», а доктора — в том, что «никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно!».
И оба они, Достоевский и его герой, в унисон восклицали: «Однако ж покамест это возможно!» — и одинаково радовались, замечая, что в моменты такого напряженного труда вырабатывается какое‑то особенное раздражение нервов; «…я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется», — доверчиво сообщал герой романа своей возлюбленной.
Собственно экспериментальная часть пути героя — сочинителя, художественно исследованная Достоевским, упиралась в роковой для всякого литератора вопрос, вынужденно вставший перед совсем молодым Иваном Петровичем: «Дело все‑таки кончилось тем, что я — вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?» Иван Петрович, получивший вместе с «Бедными людьми» особый дар — видеть свою и чужую жизнь как еще не использованный сюжет, первым держал ответ. «Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь всё записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски».
Но Иван Петрович, «засевший в больнице», умирал не с тоски, а от дурного, чахоточного кашля, полученного в сырой и холодной комнате «от жильцов»; литературная карьера с гипотетическим камергерством и итальянскими путешествиями пролетала мимо него, а сочинительство, если учесть побудительные мотивы в виде «свободы и денег», которыми бредил неудачливый литератор в хорошие времена, теперь теряло всякий смысл.
Между тем Иван Петрович продолжал: «Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие…»
Эпилог «Униженных и оскорбленных» имел красноречивый подзаголовок: «Последние воспоминания». Иван Петрович, уже с сильной болью в спине и груди, признавался Наташе Ихменевой, что не может сравнивать себя с литератором С., пишущим по одной повести в два года, и с литератором N., который за десять лет один роман написал. «Они обеспечены и пишут не на срок; а я почтовая кляча!» Впереди его ждали болезнь, больничная койка и — «Записки», которые безнадежно опоздали в смысле табакерок, денежных пособий, посольских должностей и всего прочего, что приносит иным счастливцам удавшееся литературное поприще.
Теперь литература как дело и профессия не только не представлялась карьерой, но и вообще освобождалась от желаний, посторонних «механизму писания». Оказывалось, что сочинительство — занятие самодостаточное и в этом смысле является целью, а не средством. Даже в том случае, когда оно не сулило ни славы, ни денег, ни почестей, для человека призванного это было равносильно счастливому и спасительному дару. В случае же Ивана Петровича «припоминание и записывание» наполнялись еще и особым предсмертным бескорыстием, смиренной поэзией конца. На вопрос: «Коли скоро умру, к чему записки?» — литератор, принимаясь за дело, отвечал: «Я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять».
И все же это был эксперимент, смертельно опасный не столько для героя, сколько для автора романа. Вывести на страницах своего журнала литературного двойника и дать ему самостоятельное имя, подарив при этом и свою первую славу, и свой первый роман, и свои писательские привычки, и свою манеру работать (Иван Петрович даже по комнате ходил взад и вперед, как Достоевский, когда придумывал новые повести), а затем повернуть сюжет так, чтобы герой — сочинитель, надорвавший здоровье черным поденным трудом, писал «Записки» (то есть роман «Униженные и оскорбленные») как предсмертный текст, мог только литератор беспредельного риска.
Апрельский номер «Времени» с первыми двумя главами четвертой части романа (всего восемнадцать страниц) сопровождался редакционным уведомлением: «Болезнь автора заставила нас остановиться на этих двух главах. Так как они составляют почти отдельный эпизод в романе, то мы решились напечатать их теперь же, не дожидаясь окончания четвертой части, которое мы надеемся поместить в следующем номере» [113] . Пометка в записной книжке Достоевского 1861 года обнаруживала характер болезни: «Припадки. 1–го апреля — (сильный)». Страхов, сотрудничавший во «Времени», вспоминал: «Федор Михайлович… печатал с первой книжки свой роман «Униженные и оскорбленные» и вел критический отдел… Кроме того, он принимал участие в других трудах по журналу, в составлении книжек, в выборе и заказе статей, а в первом номере взял на себя и фельетон… Такого труда, наконец, не выдержал Федор Михайлович и на третий месяц заболел… Болезнь эта была страшный припадок падучей, от которого он дня три пролежал почти без памяти… Дорого обходился ему литературный труд. Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктора одним из главных условий ставили — прекратить вовсе писание. Сделать этого, разумеется, не было возможности…» [114] Вместив в образ Ивана Петровича громадный пласт своей реальной биографии, наделив его своей собственной писательской судьбой (Страхов без обиняков утверждал, что в «Униженных и оскорбленных» автор «вывел на сцену самого себя» [115] ), Достоевский весьма скоро смог обнаружить странный факт: его автобиографический персонаж не только «отбирал» у него прошлое — литературную молодость и первый читательский успех, — но и имел несомненное влияние на нынешнюю, текущую жизнь — так что автор вынужден был подчиняться обстоятельствам, придуманным для героя. И это касалось уже не только сугубо профессиональной сферы — психологии и технологии литературного творчества (Иван Петрович, признаваясь в хорошо знакомом Достоевскому чувстве, говорил: «Мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености»). Это касалось самой тонкой, деликатной и непредвиденной стороны жизни автора, но — автобиографический герой будто предсказывал ему, что та самая самоотверженная любовь, когда ради счастья любимой женщины он не просто уступит ее счастливому сопернику, но и будет при ней почтальоном, конфидентом, другом и братом, на самом деле только еще предстоит.
Любовный треугольник «Униженных и оскорбленных», художественно преобразивший трагический узел, завязанный историей первого брака писателя (страстью Марьи Дмитриевны к молодому учителю, готовностью солдата — жениха пожертвовать своим чувством ради ее счастья), содержал такой мощный потенциал переживаний, что им суждено было, ничуть не повторяясь сюжетно, вновь захватить и обжечь Достоевского. Через три месяца после того, как во «Времени» закончилось печатание «Записок» Ивана Петровича, 1 ноября 1861 года, вышел очередной номер журнала, где под «сенью крыл» — четырех глав «Записок из Мертвого дома. Ф. М. Достоевского» — значилась повесть никому не известной дебютантки «А. С — вой». Своей привилегией хозяина журнала, который, никого не спрашивая и не слушая, мог поместить рядом с литературными корифеями слабую вещь протежируемой дамы, он пользовался впервые в жизни. До рокового эпизода, когда писателю вновь пришлось играть неблагодарную роль «друга и брата» неверной возлюбленной, оставалось целых два года.






















