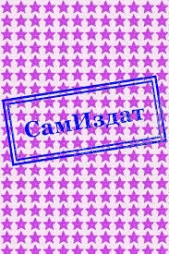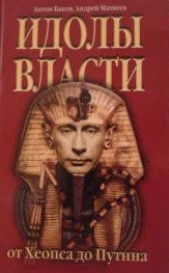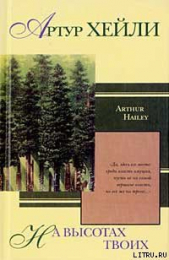Миры и столкновенья Осипа Мандельштама

Миры и столкновенья Осипа Мандельштама читать книгу онлайн
Книга посвящена поэтике одного из крупнейших представителей Серебряного века — Осипа Мандельштама. Однако его творчество взято в широком разрезе — от И. Ф. Анненского до позднего Набокова (диахронически) и Хлебникова, Пастернака и Маяковского (синхронистически). Главный интерес составляют межъязыковые игры.
Книга рассчитана на самый разнообразный круг читателей, интересующихся русской поэзией начала XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зина Мерц — Мерцающая Память. «Как звать тебя? — вопрошает поэт. — Ты полу-Мнемозина, полумерцанье в имени твоем, — и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странствовать вдвоем». Это не обыгрывание имени героини в стихах. Все наоборот: имя собирает и держит стихи, и не только годуновские. Пульсирующая структура имени (женского имени!) восстанавливает утраченные времена и смыслы и возращает конститутивным для поэтического субъекта эффектом этой проработки. А. М. Пятигорский определил мироощущение Набокова как «философию бокового зрения»: «Набоков в своих романах и рассказах не смотрит на судьбу прямо, в упор (как на прямой вопрос — здесь не получишь ответа). Что-то можно заметить лишь где-то на краю зрительного поля <…> Для этого надо все время отодвигаться в сторону. <…> Но развилась эта „привычка“ гораздо позднее (в „Даре“ она незаметна). Может быть, то, что отъезд семьи его „отодвинул“ от России, было первым шагом, а его произвольный переход от русского к английскому — вторым». Лишь одна поправка: в «Даре» эта привычка уже есть, и весьма основательно.
«Дар» — это спор голоса громкого и тихого. Громкое, плоское, граммофонно-искаженное начало — Чернышевский; тихое — светлая белошвейность пушкинской иглы. Когда Анненский называет свои песни Тихими, он верен пушкинскому признанию: «Мой голос тих…» (I, 184). Опять из набоковского эссе Пятигорского: «Лолита — это бабочка, которая одно мгновение — душа, другое — вещь. Мышление здесь не найдет промежутка между ними или — чего-то третьего, лежащего как бы в ином измерении». Таким образом, Зина Мерц — это мерцающая звезда, которая одно мгновение — Мнемозина, другое — вещь, игла. При первом свидании героев: «Она сидела у балконной двери и, полуоткрыв блестящие губы, целилась в иглу»; «ей была свойственна убедительнейшая простота <…> и самая быстрота их сближения казалась <…> совершенно естественной при резком свете ее прямоты».
Для понимания мнемонически-благородной простоты Зины Мерц исключительно важен образ ее отца. «В ее передаче, облик отца перенимал что-то от прустовского Свана. <…> Судя также по его фотографиям, это был изящный, благородный, умный и мягкий человек — даже на этих негибких петербургских снимках с золотой тисненной подписью по толстому картону, <…> старомодная пышность светлого уса и высота воротничков ничем не портили тонкого лица с прямым смеющимся взглядом. Она рассказывала о его надушенном платке, о страсти его к рысакам и к музыке <…> или о том, как читал наизусть Гомера». Прототип отца — Иннокентий Федорович Анненский. Вернемся к первому (воображаемому) разговору Годунова-Чердынцева с Кончеевым о литературе, когда Федор признается, что его восприятие «зари» — поэзии XX века началось с «прозрения азбуки», которое сказалось не только в audition color? e (цветном слухе), но и буквально, — сказалось в заглавных буквах имен, «всех пятерых, начинающихся на „Б“, — пять чувств новой русской поэзии» (Бунин, Блок, Белый, Бальмонт, Брюсов). Но какова альфа этого символистского алфавита? «Переходим в следующий век: осторожно, ступенька». Ступеньку этой поэтической лестницы, gradus ad Parnassum, занимает поэт на «А» — Анненский. С Годуновым они «одногодки». Как Улисс, он не назван, он — «Никто». Одна из царскосельских «тихих песен» «Среди миров» (1909) превратилась в жеманно-грассирующем исполнении А. Вертинского в знаменитый любовный романс:
Имя этой острой астры-звезды — Адмиралтейская игла. Именно такое романсовое опошление, «Вертинка Пластинского» (по выражению Бориса Кузина) и раздражало Набокова, и не только его. В парижском стихотворении В. Ходасевича «Звезды» (1925):
<…>
Возможность превращения Адмиралтейской иглы в женщину, разумеется, чистой красоты, а не кафешантанной и постыдной фальши, была задана самим Пушкиным. В «Медном всаднике» к описанию Адмиралтейской иглы сам Пушкин делает примечание: «Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***» (IV, 379, 396). Речь идет о стихотворении «Разговор 7 апреля 1832 года», посвященном графине Е. М. Завадовской. И такая отсылка понятна и единодушна принята всеми комментаторами, потому что у Вяземского: «Я Петербург люблю, с его красою стройной…». Но «Разговор» Вяземского посвящен не северной столице, а известной петербургской красавице. В заключительной строфе:
Высокий идеал красоты и предмет бесконечного поэтического паломничества — Адмиралтейская игла, «Петербурга острие» (Хлебников). Любовно-эротический смысл пушкинского образа не только не ослаб в Серебряном веке, но даже усилился. Так, в мандельштамовском двустишии, посвященном Ю. Юркуну: «Двое влюбленных в ночи дивились огромной звездою, — / Утром постигли они — это сияла луна» (I, 158). Ильф и Петров в «Золотом теленке» отсылают уже не столько к пушкинской «богине цитат» (Шкловский), сколько к самой божественной цитатности Адмиралтейской иглы в Серебряном веке. Цитаты надо давить, как виноград, и втирать, как змеиный яд. Ильф и Петров знают в этом толк. В самом конце романа, после окончательного любовного фиаско с Зосей, великий комбинатор признается Козлевичу: «Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности: отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: „Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты“. Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?».